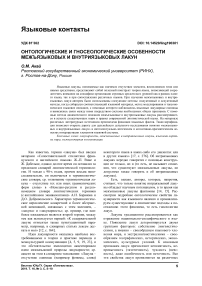Онтологические и гносеологические особенности межъязыковых и внутриязыковых лакун
Автор: Акай Оксана Михайловна
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Лингвистика @vestnik-susu-linguistics
Рубрика: Языковые контакты
Статья в выпуске: 3 т.16, 2019 года.
Бесплатный доступ
Языковые лакуны, понимаемые как значимое отсутствие элемента, восполняемое теми или иными средствами, представляют собой полезный конструкт теории языка, позволяющий сосредоточить внимание на специфике организации строевых средств всех уровней как в рамках одного языка, так и при сопоставлении различных языков. При изучении межъязыковых и внутриязыковых лакун автором были использованы следующие методы: индуктивный и дедуктивный методы, когда собирался соответствующий языковой материал, метод моделирования и таксономическое языковое описание, с помощью которого наблюдались языковые лакунарные единицы и выявлялись связи между ними посредством системы необходимых общих признаков. С помощью метода динамического описания межъязыковые и внутриязыковые лакуны рассматриваются в аспекте существующих норм и правил современной лингвистической науки. На материале различных литературных источников произведена фиксация языковых фактов. Такая верификация позволяет открыть дорогу для дальнейшего детального исследования понятия «межъязыковых и внутриязыковых лакун» в интеллектуально-логическом и когнитивно-прагматическом аспектах интерпретации элементов языковой системы.
Лакунарность, межъязыковые и интраязыковые лакуны, языковая картина мира, межкультурная коммуникация
Короткий адрес: https://sciup.org/147232044
IDR: 147232044 | УДК: 81’362 | DOI: 10.14529/ling190301
Текст научной статьи Онтологические и гносеологические особенности межъязыковых и внутриязыковых лакун
Как известно, термин «лакуна» был введен авторами «Сопоставительной стилистики французского и английского языков» Ж.-П. Вине и Ж. Дабельне, однако долгое время он оставался за пределами словарей лингвистической терминологии. И только с 90-х годов, причем весьма непоследовательно, он включается в терминологические словари, ср. толкование «грамматическая лакуна – отсутствие тех или иных грамматических форм слова» в «Немецко-русском и русско-немецком словаре лингвистических терминов (с английскими эквивалентами)» А.Н. Баранова и Д.О. Добровольского. Характерно терминологическое неразличение конкретной и более абстрактной номинаций, связанных с этим явлением, – «лакуна» и «лакунарность»; ср. пример, где наиболее ожидаемым является второй термин, между тем как используется первый: «К содержательной лакуне относится также пунктуационный параметр, например, в словарных статьях лексем дескать и мол» [12, с. 164].
Идеи лакунарности оказались наиболее востребованными в теории и практике перевода и межкультурной коммуникации [4, 5, 9, 19, 23], и это обстоятельство имплицитно акцентировало идею межъязыковой природы лакунарности; ср. акцент на этом в словарном толковании: «Лакуна – отсутствие единицы (например фонемы, слова)
некоторого языка в каких-либо его диалектах или в других языках» [17, с. 276]. Об интраязыковых лакунах нередко говорится с помощью конструкции не только, но и (то есть, не вызывает сомнения, что существуют межъязыковые лакуны, но допустимо также говорить и об интраязыковых лакунах).
Есть, однако, авторы, которые, напротив, считают, что только понятие интраязыковой лакуны обладает научным потенциалом, в то время как межъязыковые лакуны фантомны [14, 15]. Рассмотрим подробнее онтологические свойства лакунарности как языкового явления и проанализируем существующие в лингвистике подходы к постижению этого феномена, то есть гносеологию лакун.
Лакуны традиционно рассматриваются как отражение национально-специфического в языке. Появление лакун детерминируется двумя группами факторов: собственно лингвистическими, а именно – своеобразием языкового членения мира, и экстралингвистическими – своеобразием географических, исторических, экономических, культурных условий. К основным признакам лакун причисляют непонятность, непривычность (экзотичность), чуждость (неясность), даже ошибочность или неточность. Все эти свойства лакун проявляются на различных уровнях – от фонетического до уровня текста и даже речевого жанра [13].
В лингвистике наиболее разработана уровневая (таксономическая) классификация лакун, в которой раскрывается уникальная система одного языка по отношению к другому. Гораздо менее развита экспланаторная составляющая теории лакунарности: дело, как правило, исчерпывается общими рассуждениями о своеобразии языковой и ментальной картин мира. Конечно, есть случаи вполне прозрачные, когда хорошо известны и понятны экстралингвистические истоки лакунарности. Если, в отличие от русского, в английском языке наряду с lawyer есть barrister, solicitor, counsel, counsellor и другие градации юридической и адвокатской деятельности, то это мотивировано экстралингвистическими обстоятельствами. Гораздо труднее объяснить грамматическую лакунарность, ибо грамматика связана с социальной жизнью лишь опосредованно, прямые экстраполяции в этом случае нередко оказывались вульгарными [2, 10].
Лингвистика накопила много фактологии, отражающей поразительные особенности в лексической и грамматической системах. Так, Е. Найда утверждал, что в языке тараумара отсутствуют отдельные обозначения для синего и зеленого цвета, а в языке хупа категория времени может выражаться существительным [22, с. 35]. С точки зрения теории межъязыковой лакунарности, эти языки обладают лакунами – лексической и грамматической – по отношению ко всем языкам европейского стандарта. Вообще лакуна имеет исключительно релятивный характер: термин приобретает смысл только тогда, когда некий объект сравнивают с неким шаблоном, оценивается относительно этого шаблона [7, с. 189–190]. Так, при сравнении языков, имеющих категорию рода и не имеющих таковой, род оказывается лакунарной категорией. Но даже при наличии той или иной категории в обоих сравниваемых языках лакунарными могут оказаться отдельные детали (ср. не-дифференцированность по роду личных местоимений в финском языке или различную сочетаемость по числу: в большинстве индоевропейских языков количественные числительные сочетаются с формами множественного числа существительных, в то время как в угро-финских и тюркских языках соответствующее сочетание осуществляется по единственному числу и т. п.) [3, с. 73].
Лакунарными считаются не только лексические единицы в целом, но и любые составляющие компоненты лексической семантики и даже элементы экстралингвистической информации, которые сопровождают данное явление в сознании носителей одного языка и редуцируются при рецепции в другом языке. Наиболее часто при сравнении языков выделяются эмотивные лакуны. Так, в русском языке наименования в переносном значении типа орел, сокол имеют мелиоративную, даже возвышенную коннотацию, в то время как в испанском коннотации иные: Николас Гильен с помощью пейоратива аquila ‘орел’ характеризует американских солдат – слепых, глухих, вооруженных ненавистью и страхом [1, с. 22–27].
Релятивны не только межъязыковые, но также и интраязыковые лакуны, то есть образования, реально не существующие в системе языка, но потенциально возможные для реализации в речи. Они выделяются на основании соотнесения слов или форм слов, материально выраженных, со словами или формами слов, не получившими материального выражения в языке, но обладающими способностью обрести его в речи. Отношения между словами или формами слов, составляющими ущербную парадигму, как и в обычных ситуациях, носят взаимный характер. Структуры, материально выраженные, служат фоном, на котором проявляется вещественное отсутствие слова или формы слова.
М.Я. Дымарский [7, с. 192] указывал на следующие затруднения в онтологической интерпретации понятия лакуны: 1) не ясно, можно ли описывать как сущность факт отсутствия чего-либо, пустое место; 2) не ясно, можно ли рассматривать как сущность то, что выявляется лишь путем внешней оценки, сопоставления с неким шаблоном, то есть то, что имеет исключительно релятивный характер. Когда говорится о лакуне, имеются в виду две знаковые последовательности, два текста (в семиотическом смысле): первый - данный реальный текст, второй - некий иной, рассматриваемый как прототип по отношению к первому. Текст, в котором обнаруживается лакуна, является неполным по отношению к своему прототипу. Лакуна в таком случае – это пробел в ряду означающих реального текста, выявляемый сопоставлением с аналогичным рядом текста-прототипа, нуль на месте ожидаемой единицы. Можно ли считать сказанное онтологической интерпретацией понятия лакуны - вопрос, который, как пишет М.Я. Дымарский [7], остается открытым. Думаем, однако, что релятивный характер лакуны эксплицирует ее системную природу, а значит, приравнивает ее к субстанционально воплощённому объекту.
Итак, идеи, связанные с языковой лакунарностью, оказались наиболее актуальными для теории перевода и межкультурной коммуникации, что отражено в работах Л.С. Бархударова, В.М. Гака, В.И. Жельвиса, И.Ю. Марковиной, Ю.А. Сорокина, Ю.С. Степанова и мн. др. В то же время заслуживает внимания наблюдение Г.Д. Ермоловича о том, что в основополагающих трудах по переводо-ведению вообще отсутствует понятие «лакуна»: без него благополучно обходятся в своих монографических работах такие теоретики переводове-дения, как В.Н. Комиссаров, Я.И. Рецкер, А.В. Федоров, А.Д. Швейцер. Высказанную Ю.С. Сорокиным мысль о том, что от лакунологии следует ожидать продуктивных импульсов для решения переводческих проблем [16, с. 6], Г.Д. Ермолович считает несостоятельной – никаких полезных импульсов переводоведы от лакунологии не восприняли, а лакунология имеет не столько лингвистический, сколько культурологический статус, а вообще учение о лакунах представляется ему «засохшей ветвью» [8]. Но даже при таком скептическом взгляде на познавательные возможности теории лакун само их существование как межъязыкового феномена Г.Д. Ермолович вовсе не отрицает.
Напротив, в работах Е.В. Савицкой [14, 15] достаточно убедительно доказывается, что научной ценностью обладает только понятие интраязыковых лакун. Как считает Е.В. Савицкая, имеются веские основания полагать, что межъязыковая трактовка выходит за допустимые пределы толкования термина лакуна: она противоречит самой сущности понятия ‘лакуна’ – пробел, нехватка элемента, отсутствие единицы или формы в определенной ячейке той или иной парадигмы, входящей в систему языка, причем эта ячейка имеет установленную форму. Пустая ячейка играет в структуре понятийного поля определенную роль. И элементы других языков не могут повлиять на эту структуру самим фактом своего существования. Для понятия лакуны чрезвычайно релевантным является идея системности, а системный подход предполагает, что если в одном языке нет эквивалента для единицы / формы другого языка, это еще не означает, что в первом языке обязательно есть пустая ячейка, то есть «нет» вовсе не означает непременно «недостает, не хватает».
Действительно, хорошо известные примеры различий в языковой концептуализации мира (богатая синонимика, связанная, например, с понятием «снег» в языках северных народов и под.) вряд ли правомерно трактовать в свете идей лакунарности. Если в русском языке нет прямого аналога эвенкийскому уругатэ ‘копье на медведя’ [1, с. 22– 27], это не значит, что в русском языке отмечается соответствующая лексическая лакуна.
Межъязыковое понимание лакун коррелирует с известными свойствами любого языка – универсалиями, френкенталиями и уникалиями. Универсалии присущи всем языкам мира. К числу универсальных относятся все те свойства, которые соответствуют общечеловеческим формам мышления и видам деятельности; универсальны и те черты языка, которые позволяют ему осуществлять свои главные функции, а также те его характеристики, которые возникают как следствие единых для всех языков закономерностей их существования, функционирования и эволюции [18, с. 33]. Фреквенталии – свойства, присущие многим, но не всем языкам. Так, категория глагольного времени привычна носителям индоевропейских, финно-угорских, тюркских и многих других языков, но не свойственна китайскому. В том случае если фреквенталия обнаруживается у многочисленных близкородственных языков, причины её существования лежат на поверхности и теоретической лингвистике не интересны; любопытны фре-квенталии языков дальнородственных или не считающихся родственными. Свойства, присущие какому-либо одному языку, и только ему, принято называть языковыми уникалиями. Теоретическое отображение не только универсалий, но и фрек-венталий и уникалий – величина относительная. То, что когда-то считалось универсалией, при обнаружении нового языкового материала перейдет в разряд фреквенталий и наоборот, то есть здесь ярко проявляется гносеологическая незавершенность [18, с. 34–35]. Действительно, оказывается, что в этой системе нет места понятию ‘межъязыковая лакуна’. Если считать лакуной всякое несуществование единицы или формы в языке, то исследователю придется иметь дело с «фантомными лакунами» – псевдолакунами, то есть названиями понятий, не актуальных для той или иной лингво-культуры. Е.В. Савицкая использует сравнение с шахматами (к которому традиционно прибегает лингвистика): в комплекте шахматных фигур может не хватать пешки, а не шашки или фишки (хотя их и вправду нет); пустая клетка есть только для недостающей пешки [15].
Интересно, что традиционные примеры межъязыковых лакун могут быть интерпретированы иначе. Так, при анализе обозначений временных промежутков в русском и английском языках отмечались как соответствия (секунда – second, минута – minute, неделя – week, месяц – month), так и отсутствие эквивалентности (сутки – ?). Отсутствие однословного обозначения – это, как считает Е.В. Савицкая, интраязыковая лакуна, это факт лексической системы английского языка. Конечно, для переводоведения актуально, как элиминуется эта лакуна: twenty-four hours, day and night или просто day (одно из зафиксированных словарных значений у этого слова именно ‘сутки’, как, впрочем, и в русском: предложение я не спал три дня, скорее всего, должно быть интерпретировано как я не спал трое суток). В русской лексикограмматической системе есть своя лакуна в этой сфере: по-русски нельзя построить словосочетание 22 + сутки. Эта лакунарность обусловлена исторически, а именно – остаточным влиянием утраченного двойственного числа, и это факт именно русской языковой системы, которая несет в себе реликты грамматических форм.
Если считать, что лакуна – не плод воображения, а единица, объективно существующая в языке, то становится очевидным: невозможно мысленно вставлять в систему языка бесконечное число чуждых единиц и на этом основании находить в ней лакуны. Е.В. Савицкая [15, с. 130] пишет, что такие «лакуны» существуют не в парадигме, а в сознании переводчика. Не случайно межъязыковая трактовка лакун возникла именно в теории перевода. Переводчики обращаются к ими же созданной, служащей их целям таблице межъязыковых переводческих соответствий. Такие таблицы – «орудие переводческого труда», а не объективная реальность той или иной языковой системы. Переводчики находят лакуны не в объекте (языке), а в инструменте (таблице), где материал организован так, как это удобно для переводческой работы, а не так, как объективно построены парадигмы в том и другом языках. Думаем, однако, что понятие межъязыковой лакуны обладает научной значимостью и перспективно для многих прикладных сфер, прежде всего для переводоведения, где очень важно соотнести то, что в одном языке – «отдельности», а в другом – «пустОты», несигна-лизируемые участки. Развитие теории перевода и – шире – межкультурной коммуникации закономерно опирается на идеи лакунарности. Элементы вербального и невербального аспектов «чужой» культуры, вызывающие реакцию недооценки, неприятия, несогласия, непонимания, обозначаются термином лакуна [11]. Лакуны возникают в результате проекции тех или иных элементов вербального и невербального опыта носителей «чужой» культуры на «аксиологическую ось» автохтонного образа мира, то есть лакунизация тесно связана с аксиологичностью [20, 21]. Именно лакуны, отражающие неконгруэнтность различных образов мира, затрудняют деятельность, направленную на понимание «чужого» текста, а значит, должны быть предметом особого внимания. Что касается разграничения (противопоставления) внутриязыковых и межъязыковых лакун, а также отрицания одного из этих типов, то нужно иметь в виду следующее: их кардинальное свойство (релятивность) делает возможным их сближение. Как справедливо отмечается в работе [6, с. 135–141], понятия межъязыковых и интраязыковых лакун не противопоставлены сущностно: эти два типа характеризуют не суть лакуны, а способ ее выявления.
Итак, «сбивчивое» понятие лакуны обладает серьезным исследовательским потенциалом, а феномен лакунарности в высшей степени существен для языков мира. Исследования лакунарности находятся на пересечении целого ряда общелингвистических проблем – прежде всего интеллектуально-логического и когнитивно-прагматического аспектов интерпретации элементов языковой системы, а гносеологическая незавершенность понятий лакуны и лакунарности оставляет простор для дальнейших штудий.
Список литературы Онтологические и гносеологические особенности межъязыковых и внутриязыковых лакун
- Байрамова, Л.К. Лингвистические лакунарные единицы и лакуны / Л.К. Байрамова // Вестник Челябинского гос. университета. - 2011. - № 25. Вып. 58. - С. 22-27.
- Бердичевский, А.Л. Отражает ли русская грамматика русскую ментальность?/ А.Л. Бердичевский // Международный научный симпозиум «Русская грамматика». Сборник тезисов Международного научного симпозиума (Москва, 13-15.04. 2016) М. 2016. - С. 58-61.
- Брутян, Л.Г. От грамматики русского языка к русской языковой личности / Л.Г. Брутян // Международный научный симпозиум «Русская грамматика». Сборник тезисов Международного научного симпозиума (Москва, 13-15.04. 2016). - М., 2016. - С. 72-74.
- Быкова, Г.В. Лакунарность как категория лексической системологии / Г.В. Быкова. - Благовещенск: БГПУ, 2003.
- Глазачева, Н.Л. Модель лакунизации как составляющая теории перевода (на примере русского и китайского языков): автореф. дис. … канд. филол. наук / Н.Л. Глазачева. - Барнаул, 2006.
- Дунь, Н.Л. Интралингвальные лакуны в лексической системе русского языка / Н.Л. Дунь // Вiсник СумДУ. Серiя Фiлологiя. - 2007. - № 1, т. 1. - С. 135-141.
- Дымарский, М.Я. Возможна ли онтологическая интерпретация понятия лакуны? / М.Я. Дымарский // Лакунарность в языке, картине мира, словаре и тексте. Межвузовский сб. науч. тр. - Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2009. - С. 189-195.
- Ермолович, Г.Д. Наш паровоз, вперед лети! В лакуне остановка. Электронный ресурс / Г.Д. Ермолович. - URL: www.yermolovich.ru/ lakunaunaabridgel.pdf (дата обращения: 12.01.2019).
- Коптева, О.В. Лакунарность в английском языке на фоне русских соответствий (на материале английского перевода романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин»): автореф. дис. … канд. филол. наук / О.В. Коптева. - Казань, 2009.
- Лазарев, В.А. Морфологические категории: антропоцентрический и лингвокультурологический аспекты интерпретации / В.А. Лазарев. - Ростов н/Д.: ИПО ПИ ЮФУ, 2009.
- Марковина, И.Ю. Культура и текст. Введение в лакунологию: учебное пособие / И.Ю. Марковина, Ю.А. Сорокин. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.
- Перфильева, Н.П. Лакуны при лексикографировании дискурсивных показателей. Лакунарность в языке, картине мира, словаре и тексте: межвуз. сб. научн. тр. / Н.П. Перфильева. - Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2009. - С. 163-172.
- Рябов, В.Н. Русские интраязыковые лакуны: формально-семантический аспект: дис. … д-ра филол. наук / В.Н. Рябов. - Краснодар, 1997.
- Савицкая, Е.В. Английские языковые лакуны в свете интраязыкового подхода: автореф. дис. … канд. филол. наук / Е.В. Савицкая. - Самара, 2015.
- Савицкая, Е.В. Внутриязыковая трактовка лакун / Е.В. Савицкая // Вестник Самарского гос. университета. - 2014. - № 9 (120). - С. 128-136.
- Сорокин, Ю.А. Лакуны: еще один ракурс рассмотрения // Лакуны в языке и речи: сб. науч. тр. / Ю.А. Сорокин. - Благовещенск, 2003. - С. 3-8.
- Стариченок, В.Д. Большой лингвистический словарь / В.Д. Стариченок. - Ростов н/Д.: Феникс, 2008. - 811 с.
- Тираспольский, Г.И. Язык и лингвистика: моногр. / Г.И. Тираспольский. - Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2015. - 194 с.
- Хань Чжипин. Национальная специфика ассоциативной лакунарности в межкультурном взаимодействии: автореф. дис. … канд. филол. наук / Хань Чжипин. - Благовещенск, 2016.
- Grodzki, E. Using Lacuna Theory to Detect Cultural Differences in American and German Automotive Advertising / Erika Grodzk. - Frankfurt am Main; Berlin; Bruxelles; New York; Oxford; Wien: Lang, 2003. - 185 p.
- Jolowicz, J.O. Lacuna theory in intercultural communication: Focus on axiological lacunae / Jens Olaf Jolowicz // Вопросы психолингвистики. - 2006. - № 3. - С. 58-77.
- Nida, E. Toward a science of translation / E. Nida. - Leiden, 1964.
- Panasiuk, I. Lakunen-Theorie: Etynopsycholinguistische Aspekte der Sprache-und Kulturforschung / I. Panasiuk, H. Schröder // Вопросы психологии. - 2007. - № 6. - С. 219-224.