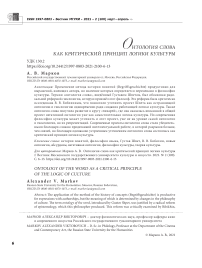Онтология слова как критический принцип логики культуры
Автор: Марков Александр Викторович
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 2 (100), 2021 года.
Бесплатный доступ
Применение метода истории понятий (Begriffsgeschichte) продуктивно для выражений, имеющих автора, но значение которых определяется переменами в философии культуры. Термин «онтология слова», введённый Густавом Шпетом, был обоснован радикальной реформой гносеологии, которую произвёл этот философ. Эта реформа была критически исследована В. В. Бибихиным, что позволило уточнить проект Шпета как остраняющий онтологию и гносеологию одновременно ради создания работающей логики культуры. Также онтология слова получила развитие в кругу «чинарей», где она оказалась вписанной в общий проект негативной онтологии уже как самостоятельная логика культуры. Но современная философия культуры может уточнить и этот проект, уже не на уровне самой онтологии и гносеологии, но их репрезентаций. Современные проекты онтологии слова стали убедительными благодаря сложно проделанной интеллектуальной работе, в которой разрывов больше, чем связей, но благодаря одинаково устроенным уточнениям онтология слова состоялась как критический принцип логики культуры.
История понятий, философия языка, густав шпет, в. в. бибихин, новые онтологии, абсурдизм, негативная онтология, философия культуры, теория культуры
Короткий адрес: https://sciup.org/144161557
IDR: 144161557 | УДК: 130.2 | DOI: 10.24412/1997-0803-2021-2100-6-13
Текст научной статьи Онтология слова как критический принцип логики культуры
Сочетание «онтология слова» подразумевает наличие у слова параметров, соотносящих его не просто с реальностью, но реальностью как предметом философской работы. Исходя из этого, понятно, что в качестве термина это сочетание не могло появиться раньше ХХ века: оно бы просто означало способность слова указывать на вещь. Появляется оно впервые у Густава Шпета, который, с целью преодолеть влияние А. А. Потебни и его учения о «внутренней форме» как семантическом ядре, дающем слову привилегированный доступ как к физической, так и нашей психической реальности, стал говорить о «внутренней форме» в другом смысле, как о новом способе соотнести онтологические и гносеологические проблемы. Причём соотнести в ситуации, когда любое употребление слова является «культурным», обусловлено инерцией уже имеющихся привычек, способных помешать постановке философского вопроса в его чистоте. Этому посвящены по большей части труды Шпета «Эстетические фрагменты» [7] и «Внутренняя форма слова: этюды и вариации на темы Гумбольдта» [8].
Онтологические замечания о слове и сам оборот «онтология слова» у Шпета выступает не как способ построения онто- логии на новых основаниях, но прежде всего как переменная, не имеющая собственного смысла, но необходимая для взвешенных суждений о языковых явлениях. Как заявлял сам Шпет, при определении «предмета языкового сознания» невозможно ограничиваться категориями “отвлеченно-формальной онтологии”» [8, с. 38] – иначе говоря, простым исчислением условий и сил, которые позволяют создать инженерную, работающую модель происходящего. В отношении языка, как замечает Шпет, такая модель будет всегда статической, запечатлевающей «принципиальную неполноту момента», иначе говоря, недостаточность вы-членённых сил и факторов для образования изучаемого явления. Поэтому и должна быть с необходимостью создана «онтология динамического предмета, где течёт не только содержание, но где сами формы живут, меняются, тоскуют и текут» [8, с. 38]. Имеется в виду то, что смысл осуществляет форму, которая оказывается самостоятельной, не до конца подвластной смыслу, – но её дальнейшая жизнь считывается не просто как жизнь, а осуществление, сотворение. Тем самым мы переносим на форму и её сокровенную жизнь тот импульс, который связывали с осуществив- шим форму смыслом, при этом признавая её самостоятельность.
Такое эмоционально заинтересованное признание самостоятельности предмета представляет собой не культурную привычку, но прямо следует из собственного смысла онтологии. Онтологию Шпет определяет как «формальное учение о всяком предмете» [7, с. 68], имея в виду то, что, пытаясь просто схватить предмет, мы ещё не мыслим его онтологично, а лишь запускаем механизмы идеализации. Только последовав за предметом в многообразии его осуществлений, в том числе соотносимых с культурой впечатлений, мы сможем создать ту не- противоречивую модель, которая и станет онтологией этого предмета: показывая его осуществимость и осуществлённость независимо от тех параметров, по которым мы начинаем считывать те или иные его осуществлённости, по инерции рискуя их идеализировать.
Такое остранение онтологии от параметров приводит к тому, что онтология слова существует независимо от тех методов, которые требуют применить к предмету устойчивые нормы словесного выражения. Как поясняет в другом месте Шпет, в ходе предложенной им философской работы мы выясняем, «какие свойства онтологически существенны» [8, с. 189] для предмета как в целях формального онтологического определения, так и в целях феноменоло- гического описания, и в целях смыслового интерпретирующего анализа. Но именно эти поставленные через запятую процедуры выяснения того, как мы можем прийти к предмету, и определяют нас как субъект, а не безличное «единство сознания». Ведь постигая предмет, мы устанавливаем как данность, не зависящую от способов полагания данности в различных фило- софских школах, наше сознание, познающее предмет. Сознание тогда и выступает не как замещение субъекта, но как существенный признак субъекта, наравне, например, с интуицией или способностью к творческой реконструкции.
Исходя из такой независимости сознания, способного реконструировать в том числе собственное содержание в ходе практических взаимодействий с вещами и мыслью, Шпет вводит «онтологику» [8, с. 176] как определённый способ изучения содержательных отношений в действительном бытии, наравне с логикой как изучением формальных отношений: раз сознание уже не полагает параметры онтологии, но существует внутри них. Онтологика, как искусство работы с фактами сознания, наподобие логики как искусства работы с понятиями, оказывается, нужна не для того, чтоб изучать действительный мир, где мы уже применяем некоторые познавательные инструменты, хотим мы этого или нет, но чтобы изучить содержание фантазий, искусства и тем самым понять, каково смысловое отношение предложенного фантазией способа производства к тому способу изготовления знаний или вещей, который уже имеется в нашем распоряжении.
Например, онтологика, согласно Шпету, позволяет выяснить, насколько характер литературного героя выстроен так, как характер нашего знакомого, с которым мы можем встретиться в материальном мире. «Если ты – будто бы паровоз или Чацкий, то в первом случае ты должен деловито пыхтеть, свистеть и тарахтеть, а во втором – резонировать и бездельничать. Через это онтологика материального содержания продуктов фантазии сохраняет отношение к действительности и понятна, со стороны смысла, только, когда понятно соответ- ствующее отношение» [8, с. 176]. В таком случае онтология слова – это понимание того, как материальное содержание фантазии определяет внутреннюю форму слова, которая оказывается тем самым не привилегированной, а созданной текущим порядком символического производства.
Онтологический порядок тогда – это изучение синтаксиса, о чём Шпет говорит гораздо раньше [8, с. 72], потому что синтаксис позволяет расположить вещи таким образом, что они видны с точки зрения их предмета и содержания. Это поясняется в его «Эстетических фрагментах» в виде чеканной формулы: «В таком своём качестве синтаксис есть не что иное , как онтология слова – часть семиотики, онтологического учения о знаках вообще. Если какой-либо представитель синтаксической науки выразит изумление перед тем, что он оказывается в объятиях онтологии, то придётся поставить ему на вид, что он сам этого хотел, высвобождаясь из плена логики» [7, с. 61]. Таким образом, синтаксис оказывается способом выявить специфику слова как семиотического объекта, сохраняя ориентацию на некоторое число порядков мира вещей, а не на те ограниченные порядки суждений, которые были изобретены логикой.
Онтологическая особенность слова, по Шпету, способность такой репрезентации, которая определяет и сам порядок репрезентации [8, с. 163], а не только отдельно взятое содержание, которое и могло бы стать привилегированным. Например, «микрокосм» в отношении человека говорит не просто о способности человека быть в космосе, иметь организацию и соотноситься с большим космосом, но и то, что существование космоса как некоторого специфического порядка, не срывающегося только в специфичность, возможно благодаря полаганию человека как микрокосма, которое и позволяет дальше рассуждать, не следуя только готовой инерции рассуждений. Тем самым работа с внутренней формой слова оказывается специальной философской работой. В. В. Бибихин увидел в этом попытку чистой пассивности воспринимающего, считая, что выведение логической работы из онтологической заменяет философское дело почти журналистским схватыванием проблемы [2, с. 366], превращает человека исключительно в прибор фиксации [2, с. 367]. Бибихин усматривает в этом почти революционный активизм [2, с. 368] и несколько раз обличает Шпета как русского антикантианца, активиста культуры, противопоставившего приоритету созерцания некоторые механизмы действия, в том числе речевого, которые уже выводят на онтологическую проблематику. При этом само дело Шпета для Бибихина – часть философской ставки, в которой стали возможны сами эти вопросы, способность увидеть в вещи целое, даже если «ощущения от вещи размазаны по фону» [2, с. 124]. Тем самым для Бибихина Шпет, несомненно, философ, а радикальное несогласие с его проектом позволило понять, как именно Шпет обошёлся с внутренней формой и остранил онтологию и гносеологию. Это и сделало проект Шпета проектом логики культуры, а не использования логики и других разделов философии для утверждения привилегированных гносеологических позиций или позиций действия, за что он и критиковал Потебню.
Поэтому Шпет и говорит о признании как доказательстве, по сути, логики культуры, стоящей за онтологией слова. Так, Шпет упоминает «глубокий смысл выделенья в онтологическом порядке субъектов, как sui generis объектов, из общего состава объ- ектов действительного бытия» [8, с. 188], имея в виду, что кроме запуска некоторых мировых процессов, формализуемых как физические или химические, подводимых под логос как формулу, уже запущены процессы признания, которые имеют в виду особое отношение, которое если мы не по- стулируем как онтологическое, мы просто не признаем в нём отношения, а лишь от- дельные эпизоды такого признания, между которыми мы потом невольно, по инерции установим культурное неравенство.
Репрезентацию Шпет относит к числу «квази-онтологических» [8, с. 174] отношений, как и всякого рода идеализирующие формы высказываний – к квази-логическим. Иначе говоря, подчинение целому заведомо разрушает все прежние полагания, но при этом сохраняет тот остаток, который позволяет соотнести целое с самим бытий-ствованием отдельных вещей, как мы и можем соотнести любое упрощающее, схематизирующее суждение с вещью как таковой. Так у Шпета решается вопрос о соотношении истины и призрака, и здесь можно увидеть и радикально кантианский ход, применение учения Канта о «схематизмах» к формам высказываний в культуре. Но именно радикальное использование кантианства в целях утверждения онтологии слова как вообще онтологии всего существующего нашло продолжение в проекте Я. С. Друски-на, участника группы ОБЭРИУ и философского собеседования в ней под названием «Чинари».
Друскин, опираясь на концепцию «са-мовитого слова» В. Хлебникова, говорил о собственном органическом росте слова, но таком, которое имеет свою изнанку, – «доля разума, названная словом», согласно Друскину, «стоит в тени, или же идёт на службу разуму» [3, с. 139]. Таким обра- зом, разум оказывается некоторым целым, которое всячески и созидается фантазиями, порождающими те или иные изобретения и продукты, только если в схеме Шпета такой разум учреждается, то в схеме Друскина он созерцается. Друскин прямо употребляет выражение «чистый разум», имея в виду, что он послушен «чистому звуку» и одновременно повелевает им [3, с. 139]. Иначе говоря, остаток материального в слове или в обозначенной словом вещи, раз привилегии уже отменены, а кантовская схема действительности и схематизмов разума принята, может быть и сведён к нулю, возможно деление без остатка, которое и превращает онтологию слова в единственную логику культуры. Эта логика культуры и объясняет, как именно самовитое слово действует именно в качестве самовитого, а не отсылающего к вещам.
По точному замечанию одной из лучших исследовательниц наследия Друскина И. А. Протопоповой, этот мыслитель-авангардист для построения своей онтологии слова различал «два вида несуществующего» [5, с. 79]. Она отождествляет первый вид, несуществующее как источник несуществования, с кантовской «вещью в себе», «небытием» Парменида и «единым» Платона и платонизма, то есть представляет как то, о чём невозможны суждения, что выполняет критическую проверку суждений, или, говоря по-нашему, создаёт онтологию культуры. Тогда как второй вид, несуществующее как граница существования, это источник не отсутствия суждения, а отсутствия понимания, доопытное видение мира как одного из возможных миров, как мира, который сложился вдруг именно так, а не иначе (что, заметим, сразу напоминает проблематику философии первой половины ХХ века, от Э. Гуссерля до Л. Витгенштейна).
Этот второй вид несуществующего, граница существования, которая уже не есть существование чего-либо, и есть та область непривилегированного называния, которая и соответствует онтологии слова, по Шпету, синтаксис мировых явлений, уже схваченных самовитым словом и потому изъятых из «сетки» (термин Друскина) инерционного понимания. Так, второй вид несуществующего приоткрывает уже не онтологию культуры, а онтологию слова, уточняя позицию Шпета как относящуюся не только к ядру слова, но и к слову вообще, с его и внешней, и внутренней формой.
Полным соответствием критики Шпета со стороны Бибихина является критика Друскина со стороны Г. И. Чернавина [6, с. 80], который обратил внимание на то, что «радикальная феноменологическая редукция» Друскина может быть понята и как прикладное использование феноменологии в целях авангардного эксперимента над сознанием, и как слишком буквальное понимание редукции как временного предвосхищения «того, что ещё только предстоит помыслить», и как даже буквализм, окончательно скатившийся в пародию. Пункт за пунктом, как Бибихин подозревает Шпета в активизме в духе его эпохи, так и Чер-навин подозревает Друскина в пассивизме (раз он занимается негативными определениями, а не позитивными, то это не активизм, а пассивизм), но тоже как последовательном капризном действии, которое деформирует философию. Но как Бибихин всегда признаёт Шпета настоящим философом и только сомневается в том, не слишком ли он поспешно повторил кантианские ходы, и тем самым превращает его активизм только в некоторый колорит мысли Шпета – так и Чернавин думает, не слишком ли Друскин поспешно отказался от полага- ния. «То есть он предлагает практиковать феноменологическую редукцию, не полагая её существование» [6, с. 80]. Тем самым Чернавин признаёт в Друскине философа, для которого эта пародийность редукции оказывается лишь колоритом мысли, направленной на исследование модальностей практики, в том числе практики слова.
Итак, в проекте Друскина онтология слова окончательно становится логикой культуры со всеми её практиками, модальностями и отказом от привилегии позиции, что открывает новые возможности для понимания памяти и учредительной воли.
Такое приложение логики культуры для решения философской задачи показал Бибихин, употребив оборот «онтология слова» при истолковании позиции Софокла, для которого великие слова вовсе не следуют из величия мыслей, но, напротив, из умения обратиться с великим словом и следует возможность мыслить – смело сказать речь и значит постепенно начать мыслить [1, с. 163]. Это рассуждение Бибихина, генетически связанное с философией поступка М. М. Бахтина, которую Бибихин обсуждал в своё время подробно и критически, очень напоминает «парресию», как её многократно толковал М. Фуко, но с тем отличием, что Бибихин а) исходит из того, что такое политическое действие может заведомо не применять насилие, и б) рассуждает о самом обращении к другим не как о части коммуникации, но как о таком подборе слова, выборе единственно верного, притом что непонятно, из чего выбираешь, как основы учёбы, как основы правильного определения того, какие задания и зачем выполняются. Бибихин замечает: «В опубликованных русских переводах софоклов-ская онтология слова понятным образом переделана в поучительную моралистику»
[1, с. 163]. Тем самым онтология слова оказывается логикой поступка как явления культуры, который и позволяет переопре- делить культуру, показав, что точно есть в культуре: отказ от насилия, непредре-шённость, целесообразность и другие свойства, которые Бибихин назвал, характеризуя парресию.
Точно так же устроены и другие лучшие работы по онтологии слова. Так, книга С. А. Макуренковой, имеющая этот оборот в своём названии [4], утверждает реалистическое существование тех предпосылок, которые мы привыкли по инерции считать идеализированными моделями, создающими порядок мыслей. С опорой на Фуко и Барта, Макуренкова говорит, например, что идеализм Платона стал возможен благодаря тому, что за его реконструкцией Атлантиды как первой в истории человечества завершённой общественной организации, которая не сводилась к учредительному действию жрецов, поддерживающему непрерывность людских действий и идей, стояла реальность крито-минойской ци- вилизации, которая вполне осуществилась как сакральная, но не жреческая. Согласно автору, такое устройство критской жизни второго тысячелетия обязано специфически развитому культу смерти, как первому культу полного цикла, не регулирующему переживание смерти как чрезвычайного события, но соединяющего жертвоприношение с картинным видением смерти и посмертное существование в единое поле чувственности, в котором и срабатывает эффект реальности.
Далее, по мнению Макуренковой, уже реализм типа Платона действовал в шекспировскую эпоху, и тем самым очередная онтология слова, надстраивающаяся над предыдущей, создавала непротиворечивую логику культуры. Таким образом, в книге Макуренковой возвращается определённая иерархичность полагания, при этом не вво- дящая привилегированности тех или иных семантических или действенных решений, что разрешает последнее возможное противоречие онтологии слова – как наличие точки полагания совместимо с кантовскими схематизмами, которые везде в сознании. Оказывается, можно понять схематизмы как просто уже находящиеся в осуществлении, что не будет противоречить ни проекту Бахтина, ни проекту Бибихина, ни другим освещённым в данной статье проектам.
Список литературы Онтология слова как критический принцип логики культуры
- Бибихин В. В. Витгенштейн: смена аспекта. Москва: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2005. 576 с.
- Бибихин В. В. Внутренняя форма слова. Санкт-Петербург: Наука, 2008. 420 с.
- Жаккар Ж.-Ф. Даниил Хармс и конец русского авангарда: [перевод с французского]. Санкт-Петербург: Академический проект, 1995. 470,[1] с.
- Макуренкова С. А. Онтология слова: апология поэта. Обретение Атлантиды. Москва: Логос-Гнозис, 2004. 320 с.
- Протопопова И. А. Чинари и философия (часть 1-я) // Русская антропологическая школа: РАШ: Труды. Москва: Российский государственный гуманитарный университет, Институт "Русская антропологическая школа", 2004-. Том 4 (2). 2007. С. 46-99.
- Чернавин Г. И. "Редукция, если она есть": феноменологическая фантастика Якова Друскина // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2020. Том 21. № 1. С. 73-82. DOI: 10.25991/VRHGA.2020.19.1.029
- Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты. Петроград: Колос, 1922-1923. 90 с.
- Шпет Г. Г. Внутренняя форма слова: этюды и вариации на темы Гумбольдта. Москва: ГАХН, 1927. 216 с.