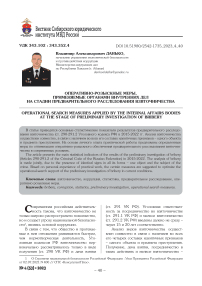Оперативно-розыскные меры, применяемые органами внутренних дел на стадии предварительного расследования взяточничества
Автор: Данько В.А.
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Теория и практика правоохранительной деятельности
Статья в выпуске: 4 (53), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье приводятся основные статистические показатели результатов предварительного расследования взяточничества (ст. 290-291.2 Уголовного кодекса РФ) в 2015-2022 гг. Анализ взяточничества осуществлен совместно, в связи с наличием во всех его составах идентичных признаков - одного объекта и предмета преступления. На основе личного опыта практической работы предложены определенные меры по оптимизации оперативно-розыскного обеспечения предварительного расследования взяточничества в современных условиях.
Взяточничество, коррупция, статистика, предварительное расследование, оперативно-розыскные меры
Короткий адрес: https://sciup.org/140302454
IDR: 140302454 | УДК: 343.102 | DOI: 10.51980/2542-1735_2023_4_40
Текст научной статьи Оперативно-розыскные меры, применяемые органами внутренних дел на стадии предварительного расследования взяточничества
С овременная российская действительность такова, что взяточничество не только широко распространено повсеместно, но и создает угрозу национальной безопасно-сти1, являясь основой коррупции.
В связи с тем, что общество и протекае-мые в нем отношения развиваются быстрее, чем нормотворческая деятельность, Уголовным кодексом РФ взяточничество первоначально рассматривалось только в виде получения (ст. 290 УК РФ) и дачи взятки
(ст. 291 УК РФ). Уголовная ответственность за посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) и мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ) введены далеко не сразу – через 15 и 20 лет соответственно.
Анализ видов взяточничества осуществлен совместно в связи с наличием во всех его четырех составах идентичных признаков – одного объекта и предмета преступления. Получение, дача взятки, посредничество в таких действиях и мелкое взяточничество – деяния частные по отношению к общему понятию «взяточничество», которое является собирательным термином.
Органами внутренних дел, для которых противодействие коррупции определено одним из приоритетных направлений оперативно-служебной деятельности1, зарегистрированы 13939 преступлений о взяточничестве или 71,5% от общего их количества. Этот показатель удерживается в пределах 70-80% (в 2015 г. – 86,5%, в 2016 г. – 78,9%, в 2017 г. – 75,4%, в 2018 г. – 73,9%, в 2019 г. – 73,8%, в 2020 г. – 70,1%, в 2021 г. – 68%).
Вместе с тем доля объективных приостановлений предварительного расследования взяточничества в исследуемом периоде не превышала в лучшем случае даже половины (43,1% в 2016 г.), что может свидетельствовать о несоответствующем общественной опасности таких преступлений уровне работы органов предварительного расследования и оперативных подразделений органов внутренних дел, а также их взаимодействии.
По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 290-291.1 УК РФ, предварительное следствие согласно пп. «а» п. 1 ч. 1 ст. 151 УПК РФ осуществляется следователями Следственного комитета. По ст. 291.2 УК РФ производится дознание дознавателями ОВД (п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ).
Эмпирическая основа исследования также представляет собой результаты социологического исследования, которое было проведено в Республиках Алтай, Тыва и Хакасия, Алтайском, Пермском и Красноярском краях, Брянской, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Тамбовской и Томской областях. Выборка регионов основывалась на принципах разнообразия территориальности и численности населения (охвачены столицы субъектов Российской Федерации, городские и муниципальные образования), национального состава, исторических и культурных традиций.
В ходе исследования опрошены 437 респондентов, из которых 12,4% (54 чел.) – руководители ОВД указанных субъектов Российской Федерации и 87,6% (383 чел.) – оперативные сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции (далее – ЭБиПК).
Общепризнанно, что успех в борьбе со взяточничеством обусловлен активным применением оперативно-розыскных мер посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ). Это обосновано повышенной латентностью преступлений, связанных с перемещением незаконного денежного вознаграждения.
Проанализированными статистическими формами отчетности2, отражающими результаты предварительного расследования, установлена следующая динамика. Так, в отношении взяточничества правоохранительными органами в 2022 г. окончены расследованием уголовные дела по 18446 (+18,3) преступлений, из них по 13481 (+17,5%) преступлению направлены в суд. По 13385 (+22,3%) предварительно расследованным преступлениям, или по 72,6%, лица документировались сотрудниками ОВД.
Следует отметить, что по 456 (+6,5%) преступлениям о взяточничестве установлена причастность организованных групп, что являлось наиболее сложным в выявлении и последующем доказывании.
При таких условиях основным рычагом успешного противодействия взяточничеству, безусловно, является ОРД. Причем использование ее результатов при предварительном расследовании не менее важно [3, с. 141-148; 6, с. 110-115], чем в стадии возбуждения уголовного дела. Это нашло поддержку у 32,6% опрошенных оперативных сотрудников подразделений ЭБиПК, отразивших предвари- тельное расследование как наиболее эффективный этап уголовного судопроизводства в части проведения соответствующих ОРМ.
Следует отметить, что согласно п. 4 Инструкции, регламентирующей представление результатов ОРД заинтересованным лицам1, после возбуждения уголовного дела результаты ОРД представляются: 1) для использования в подготовке и осуществлении следственных действий, предусмотренных УПК РФ; 2) в доказывании по уголовным делам в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств.
По нашему мнению, одной из основных проблем предварительного расследования уголовных дел о взяточничестве является неустановление всех обстоятельств подлежащих доказыванию, в том числе с объективным использованием всех возможностей ОРД.
Как считает К.В. Обидин, в настоящее время научные представления о доказывании в рамках предварительного расследования строятся на признании тождества понятий предмета доказывания и обстоятельств, подлежащих доказыванию, изложенных в ст. 73 УПК РФ, что является его пределом [5].
Нами понимается, что процессуальный закон (ч. 1 ст. 74 УПК РФ) не устанавливает каких-либо ограничений в отношении сведений, которые могут быть использованы для установления фактов, составляющих предмет доказывания. Это можно объяснить тем, что следы, оставляемые преступлением, столь же разнообразны и индивидуальны, как и каждое отдельно взятое общественно опасное деяние.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию (его предмет), сформированы в уголовно-процессуальном законе в общем виде и применимы ко всем видам преступлений (ст. 73 УПК РФ). Поскольку в противном случае потребуется создание отдельных статей, посвященных предмету доказывания каждого преступления. А для определения именно тех обстоятельств, которые должны быть установлены по конкретному уголовному делу (предел доказывания), необходимо обратиться к уголовному закону, нормы которого и формулируют юридически значимые признаки преступления, служащие ориентиром. В нашем случае – это признаки преступлений, предусмотренных ст. 290-291.2 УК РФ.
Одной из особенностей предмета доказывания по уголовным делам о взяточничестве, как указывает К.В. Обидин [5], является повсеместное введение фиксации события преступления как основного способа установления обстоятельств уголовного дела. И видео-, аудиозапись становятся обязательным доказательством.
Считаем, что такой подход может быть приемлем с определенными уточнениями. Замечания касаются прежде всего того, что в некоторых случаях наличие видео- и (или) аудиозаписи не является обязательным. Особенно – когда речь идет о ранее совершенном взяточничестве и оставлении материальных следов взятки (например, в виде имущества), передаче предмета взятки безналичным способом и соблюдении взяткодателем и (или) посредником взяточничества условий примечания 1 к ст. 291 или 291.1 УК РФ для освобождения от уголовной ответственности [подр.: 1, с. 100-103].
Стоит отметить, что в соответствии с дифференцированным подходом к процедурам производства по уголовным делам в УПК РФ наметилась тенденция к сокращению обстоятельств, подлежащих доказыванию. Применительно к взяточничеству это можно отнести только к преступлениям, предусмотренным ст. 291.2 УК РФ, предварительное расследование по которым производится в форме дознания. Так, при производстве дознания в сокращенной форме (глава 32.1 УПК РФ) предмет доказывания уменьшается до объема, достаточного для установления следующих обстоятельств: события преступления, харак- тера и размера причиненного вреда, виновности лица в совершении преступления.
В свою очередь, процедура доказывания по уголовным делам о взяточничестве, осложненном размером или иными квалифицированными признаками, а также изначальными процессами сокрытия следов преступления, предполагает необходимость в использовании максимально доступного числа средств процессуального доказывания.
Особенностью процесса доказывания по уголовным делам о мелком взяточничестве является также и ориентированность на использование возможности рассмотрения уголовного дела в суде в особом порядке. Расследование этих дел содержательно сводится [4] к воспроизведению ранее полученных сведений.
Это резко контрастирует с тем, что при расследовании квалифицированного взяточничества заключение эксперта, проводимое по аудио- и видеозаписям, отображающим момент получения и (или) дачи взятки, является наиболее распространенным и значимым доказательством. Эта необходимость обусловлена обычно ретроспективным, а не фиксационным характером познания взяточничества. Так, для установления истины необходимо не только идентифицировать голос обвиняемого, но и интерпретировать речь участников общения с целью устранения возможного подстрекательства и провокации, подтвердить отсутствие монтажа или иного вмешательства в записи.
При таких условиях предмет и пределы доказывания по уголовным делам о взяточничестве неразрывно связаны с порядком проведения оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ) и возможностью дальнейшего использования их результатов в уголовном процессе в качестве доказательств.
Поэтому основополагающим фактором здесь является наличие законного основания для самого проведения ОРМ. Но законное основание, в свою очередь, должно быть выражено в конкретном и проверяемом факте, иначе в будущем возможно постановление оправдательного приговора. Подобной точки зрения придерживается и Верховный Суд РФ1, относясь критически к ссылкам на информацию с ограниченным грифом доступа, установить происхождение которой не представляется возможным.
На необходимость наличия достаточного основания для проведения негласных ОРМ, выраженного в объективном подозрении о преступной деятельности или предрасположению к совершению преступления, являющихся фактическим разграничением законной деятельности по выявлению преступлений и провокационной деятельности, неоднократно указывал Европейский Суд по правам человека2, судебные акты которого признаются в качестве источников уголовного права России наряду с уголовным законом.
В частности, постановление Европейского Суда по правам человека от 15 декабря 2005 г. «Дело «Ваньян (Vanyan) против Российской Федерации» существенно повлияло на практику российского высшего судебного органа, а также на позицию Генеральной прокуратуры РФ по уголовным делам о взяточничестве, доказывание которых основывалось на результатах оперативного эксперимента. Так, в п. 47 данного постановления отражено: «Если преступление было предположительно спровоцировано действиями тайных агентов и ничто не предполагает, что оно было бы со- вершено и без какого-либо вмешательства, то эти действия уже не являются деятельностью тайного агента и представляют собой подстрекательство к совершению преступления. Подобное вмешательство и использование его результатов в уголовном процессе могут привести к тому, что будет непоправимо подорван принцип справедливости судебного разбирательства».
Следствием этого стало решение Верховного Суда РФ1, оставившего без изменения оправдательный приговор в отношении лица, обвиняемого в покушении на получение взятки в крупном размере, и определившего, наряду с первоначальным отсутствием конкретного и проверяемого факта, провокационность действий при проведении ОРМ. В последующем данное определение направлено Генеральной прокуратурой РФ подчиненным прокурорам с поручением усилить надзор за законностью при расследовании уголовных дел о взяточничестве.
Как считают В.С. Комиссаров и П.С. Яни [2], благодаря указанным решениям Европейского Суда по правам человека, воспринятым высшим судебным органом России, провокационно-подстрекательскую деятельность оперативных сотрудников следует рассматривать в качестве нового, пока не отраженного в гл. 8 УК РФ обстоятельства, исключающего преступность деяния лицом, в отношении которого эти действия осуществлялись.
На практике неоднозначно складывается ситуация и с использованием видео-, аудиозаписей (так называемых инициативных), негласно проведенных не оперативными сотрудниками, а взяткодателями до официального обращения в правоохранительные органы [7, с. 237]. В пользу этого косвенно говорит и проведенное анкетирование, согласно которому 35,2% руководителей ОВД и 26,6% их подчиненных оперативных сотрудников подразделений ЭБиПК указали, что документирование осуществляется и техническими средствами общего назначения.
На возможность использования таких сведений в доказывании прямо указано в определении Конституционного Суда РФ2, где разъяснено о допустимости использования в качестве доказательств как вещественных доказательств (предметов и документов), которые могут служить средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела, так и иных документов, если изложенные в них сведения имеют значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию. Документы могут содержать сведения, зафиксированные как в письменном, так и в ином виде (материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации), полученные, истребованные или представленные согласно ст. 86 УПК РФ. Документы, обладающие признаками, указанными в ч. 1 ст. 81 УПК РФ, признаются вещественными доказательствами (ч. 2, 4 ст. 84 УПК РФ). Но признание таких сведений доказательствами не исключает обязанности суда при возникновении сомнений проверить их допустимость и достоверность.
Как понимается, введение в уголовный процесс подобных материалов должно приходить следующим образом: 1) выемка записей, их криминалистическая экспертиза; 2) допрос лица их производивших и (или) выдавших; 3) приобщение в качестве доказательств как вещественных доказательств или иных документов.
Ключевым моментом в этом, конечно же, является производство экспертизы, которая должна исключить монтаж и подтвердить достоверность зафиксированного.
В досудебном производстве по уголовным делам о взяточничестве часто проводится криминалистическая экспертиза аудиозаписей с целью идентификации лиц, чьи голоса зафиксированы при проведении ОРМ. В этих случаях при возбуждении уголовного дела в отношении лица, телефонные и иные переговоры которого прослушиваются, фонограмма (а не копия) и бумажный носитель записи переговоров передаются для приобщения к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. Дальнейший порядок их использования определяется УПК РФ.
Негласная видео-, аудиозапись может использоваться в качестве доказательств и как иные документы. Главное, чтобы факт их получения был зафиксирован и представлен в соответствии с требованиями оперативно-розыскного законодательства, изучен и приобщен к материалам уголовного дела согласно уголовно-процессуальному законодательству. И в последующем эти записи становятся доброкачественным в правовом отношении объектом для производства соответствующей криминалистической экспертизы.
Но при отказе подозреваемого, обвиняемого записать речь в качестве образца для сравнительного исследования может быть использована только запись, полученная уже процессуальным путем – например, фонограмма допроса. Или такие материалы могут быть получены при проведении других следственных действий, в том числе после представления результатов ОРД о местах их нахождения. Ведь назначение и производство экспертизы – это процессуальная процедура. Поэтому используемые в таких идентификационных целях объекты должны быть получены именно процессуальным путем.
Представляется, что одним из наиболее распространенных недостатков предварительного расследования по фактам взяточничества является неправильное применение уголовного закона. Например, при временном исполнении функций специального субъ- екта или при исполнении их по специальному полномочию лицо может быть признано таковым лишь в период исполнения возложенных на него функций. Это означает, что при привлечении в качестве обвиняемого в получении взятки в уголовном деле должны находиться документы (копии документов), устанавливающие временные границы исполнения им функций такого субъекта.
Мы полагаем, что помимо анализа норм уголовного закона, которыми квалифицируются действия обвиняемого при получении взятки, и имеющейся судебной практики обязательно должны учитываться разъяснения, содержащиеся и в некоторых постановлениях Пленума Верховного Суда РФ, например, от 18 ноября 2004 г. N 231, от 30 ноября 2017 г. N 482.
Это обосновано тем, что к последствиям взяточничества можно также отнести и нарушение закона о конкуренции – невозможности обеспечения равных условий и доступа к заключению договорных отношений со стороны поставщиков и подрядчиков. Ведь в основу «выбора» потенциальным взяткополучателем («заказчик») будущего контрагента («исполнитель») сразу заложен «откат», а не реальное рассмотрение наиболее выгодных условий. Также сумма взятки в этом случае обычно уже изначально завышает итоговую сумму оплаты «заказчиком» «исполнителю», что приводит к незаконному расходованию бюджетных средств в виде хищения или злоупотребления должностными полномочиями. В подобных случаях взяточничество само по себе порождает одномоментное совершение указанных преступлений, что в его отсутствие не было бы возможным.
Для объективности рассмотрения этапа предварительного расследования нами приведена государственная статистика3, соглас- но которой в суд направлялась следующая доля преступлений о взяточничестве с учетом остатка на начало отчетного периода (см. таблицу): по ст. 290 УК РФ – 33,6% (в 2017 г. – 33,5%, в 2018 г. – 33,6%, в 2019 г. – 32,6%, в 2020 г. – 33,2%, в 2021 г. – 32,3%, в 2022 г. – 36,2%); по ст. 291 УК РФ – 30,8% (в 2017 г. – 34,8%, в 2018 г. – 30,1%, в 2019 г. – 31,4%, в 2020 г. – 28,5%, в 2021 г. – 28,4%, в 2022 г. – 31,9%); по ст. 291.1 УК РФ – 23% (в 2017 г. – 25,1%, в 2018 г. – 22,2%, в 2019 г. – 23%, в 2020 г. – 19,2%, в 2021 г. – 25,8%, в 2022 г. – 22,9%); по ст. 291.2 УК РФ – 38,2% (в 2017 г. – 39,8%, в 2018 г. – 41,8%, в 2019 г. – 34,2%, в 2020 г. – 35%, в 2021 г. – 36,3%, в 2022 г. – 42,1%)1.
Также необходимо указать, что в исследованном периоде присутствует определенная доля условности, так как в статистике не отражались количественные показатели прекращенных расследованием преступлений по реабилитирующим основаниям (п. 1, 2 ст. 24 УПК РФ), которые, безусловно, имели место быть.
Проанализировав оперативно-розыскные меры, применяемые ОВД на стадии предварительного расследования взяточничества, приходим к выводу об обязательности допроса оперативного сотрудника, проводившего ОРМ, обо всех обстоятельствах получения результатов ОРД, что необходимо для объективного подтверждения становления последних доказательствами по преступлениям, предусмотренным ст. ст. 290-291.2 УК РФ.
Сами результаты ОРД должны быть приобщены к уголовному делу либо как вещественные доказательства путем вынесения соответствующего постановления (ч. 2 ст. 81 УПК РФ), либо как иные документы (п. 6 ч. 2 ст. 74, ст. 84 УПК РФ), но только если были добыты в порядке, установленном ч. 1 ст. 86 УПК РФ. Это связано со спецификой соби- рания материалов ОРД – без соблюдения процедуры, установленной уголовно-процессуальным законом, лицами, не являющимися субъектами уголовного судопроизводства.
Достаточно жесткую позицию по этому поводу занимает и Конституционный Суд РФ, указавший2, что результаты ОРД не являются доказательствами до тех пор, пока они не закреплены в предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом порядке.
Рассмотренные статистические сведения позволили нам выявить следующие закономерности.
Во-первых, взяточничество расследуется обычно не в течение календарного года от даты возбуждения уголовного дела по преступлениям, предусмотренным ст. 290-291.2 УК РФ. Длительность предварительного расследования взяточничества находится в прямой зависимости от сложности доказывания таких преступлений, что говорит о важности использования для этого всех возможностей ОРД.
Наряду с этим сложность в доказывании отразили и проанкетированные лица. Так, на это как на одно из важнейших обстоятельств (44,4% и 41,0%), способствующих взяточничеству (61,1% и 38,6% – латентность, 44,4% и 43,1% – восприятие своей должности как дополнительного заработка или менталитет должностных лиц), указали руководители ОВД и оперативные сотрудники подразделений ЭБиПК.
Во-вторых, трудности с направлением уголовных дел о взяточничестве по большей мере испытывают должностные лица Следственного комитета, осуществляющие предварительное следствие по подследственным им преступлениям о взяточничестве, предусмотренным ст. 290-291.1 УК РФ.
Например, остаток нерасследованных преступлений о взяточничестве в среднем составил: по ст. 290 УК РФ – 60,6%; по ст. 291
Таблица
Направление в суд преступлений о взяточничестве в текущем периоде календарного года от находящихся на учете таких преступлений в России в 2015-2022 гг.
|
Статьи |
Зарегистрировано с учетом остатка |
Направлено в суд |
Прекращено (снято с учета) |
Приостановлено всего |
Остаток на конец |
|
2015 г. |
|||||
|
290 |
6495 |
5242 |
- |
251 |
1002 |
|
291 |
6815 |
5564 |
- |
142 |
1109 |
|
291.1 |
627 |
194 |
- |
34 |
399 |
|
291.2 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Всего |
13937 |
11000 |
- |
427 |
2510 |
|
2016 г. |
|||||
|
290 |
5344 |
4839 |
990 |
155 |
-640 |
|
291 |
4640 |
3708 |
1177 |
106 |
-351 |
|
291.1 |
774 |
359 |
534 |
24 |
-143 |
|
291.2 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Всего |
10758 |
8906 |
2701 |
285 |
1134 |
|
2017 г. |
|||||
|
290 |
7987 |
2404 |
689 |
131 |
4763 |
|
291 |
5169 |
1513 |
760 |
60 |
2836 |
|
291.1 |
1910 |
394 |
329 |
14 |
1173 |
|
291.2 |
12872 |
4451 |
1523 |
173 |
6725 |
|
Всего |
27938 |
8762 |
3301 |
378 |
15497 |
|
2018 г. |
|||||
|
290 |
8717 |
2700 |
593 |
90 |
5334 |
|
291 |
5862 |
1440 |
1010 |
68 |
3344 |
|
291.1 |
2380 |
444 |
357 |
19 |
1560 |
|
291.2 |
12222 |
4353 |
1586 |
229 |
6054 |
|
Всего |
29181 |
8937 |
3546 |
406 |
16292 |
|
2019 г. |
|||||
|
290 |
9925 |
2999 |
563 |
152 |
6211 |
|
291 |
7151 |
1831 |
1201 |
115 |
4004 |
|
291.1 |
3105 |
541 |
693 |
58 |
1813 |
|
291.2 |
11684 |
3225 |
2056 |
199 |
6204 |
|
Всего |
31865 |
8596 |
4513 |
524 |
18232 |
|
2020 г. |
|||||
|
290 |
10502 |
3136 |
818 |
252 |
6296 |
|
291 |
8144 |
1791 |
1733 |
130 |
4490 |
|
291.1 |
3582 |
554 |
636 |
64 |
2328 |
|
291.2 |
11543 |
3158 |
2350 |
173 |
5862 |
|
Всего |
33771 |
8639 |
5537 |
619 |
18976 |
|
2021 г. |
|||||
|
290 |
12373 |
3671 |
844 |
147 |
7711 |
|
291 |
9922 |
2177 |
2191 |
67 |
5487 |
УК РФ – 55%; по ст. 291.1 УК РФ – 61,1%; по ст. 291.2 УК РФ – 51,1%.
В-третьих, наиболее сложными в доказывании выступают преступления о посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) – 61,1% неоконченных предварительным расследованием. Немногим лучше расследуются факты получения взяток (ст. 290 УК РФ) – 60,6% на остатке, и дачи взяток (ст. 291 УК РФ) – 55%. Меньше всего нерас-следованных преступлений о мелком взяточничестве (51,1%), отнесенных к компетенции дознавателей ОВД.
Таким образом, при имеющемся в современных условиях уровне объективных приостановлений предварительного расследования взяточничества (максимальный – 43,1% в 2016 г.) для оптимизации взаимодействия органов, осуществляющих ОРД, Следственного комитета и подразделений дознания ОВД назрела необходимость в разработке межведомственной инструкции о порядке организации работы по осуществлению ОРД и предварительному расследованию преступлений, предусмотренных ст. 290-291.2 УК РФ.
Список литературы Оперативно-розыскные меры, применяемые органами внутренних дел на стадии предварительного расследования взяточничества
- Данько, В.А. Положительный опыт выявления коррупционных преступлений в сфере закупок лекарственных препаратов учреждениями здравоохранения / В.А. Данько // Экономическая безопасность личности, общества, государства, проблемы и пути обеспечения: материалы ежегодной всероссийской научно-практической конференции. г. Санкт-Петербург, 5 апреля 2019 г. / сост. Н.В. Мячин. - СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2019. - С. 100-103. EDN: WLAVAG
- Комиссаров, В.С. Провокационно-подстрекательская деятельность в отношении должностного лица как обстоятельство, исключающее ответственность за получение взятки / В.С. Комиссаров, П.С. Яни // Законность. - 2010. - N 9. EDN: NBGXQZ
- Кузьмин, Н.А. Особенности оперативно-розыскной деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел по раскрытию преступлений прошлых лет / Н.А. Кузьмин, И.А. Завьялов // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. - 2022. - N 2 (94). - С. 141-148. EDN: GNNBHW
- Обидин, К.В. К вопросу о введении понятия мелкого взяточничества / К.В. Обидин // Адвокатская практика. - 2017. - N 1. EDN: XUXCGP
- Обидин, К.В. Особенности предмета доказывания по делам о взяточничестве / К.В. Обидин // Уголовное судопроизводство. - 2017. - N 4. EDN: ZRQUER
- Павличенко, Н.В. Современное состояние методик расследования преступлений в сфере экономической деятельности / Н.В. Павличенко, П.И. Иванов // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. - 2017. - N 3 (39). - С. 110-115.
- Родичев, М.Л. Негласная аудио- и видеозапись при проведении оперативно-розыскных мероприятий: типичные ситуации и особенности оформления / М.Л. Родичев, Н.К. Пчоловский // Выявление и раскрытие преступлений коррупционной и экономической направленности: передовой опыт, проблемы и пути их решения: материалы Всероссийской научно-практической конференции. г. Санкт-Петербург, 28 мая 2021 г. / сост. М.Л. Родичев. - СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2021. - С. 235-242.