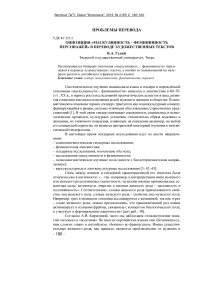Оппозиция "маскулинность - фемининность персонажей" в переводе художественных текстов
Автор: Гудий Кристина Александровна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Проблемы перевода
Статья в выпуске: 4, 2019 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается бинарная оппозиция «маскулинность - фемининность» персонажей в переводе художественных текстов, а именно их наименований на материале русского, английского и французского языков.
Гендер, маскулинность, фемининность, перевод
Короткий адрес: https://sciup.org/146281524
IDR: 146281524 | УДК: 81`255.2
Текст научной статьи Оппозиция "маскулинность - фемининность персонажей" в переводе художественных текстов
Систематическое изучение взаимосвязи языка и гендера и порождённой оппозиции «маскулинности – фемининности» началось в лингвистике в 60–70е гг. ХХ в., в период роста исследований прагматических аспектов языка, развития социолингвистики и изменения ролей мужчин и женщин в обществе. В лингвистическом описании термин «гендер» трактуется как социокультурный концепт, формирующийся в рамках системы этнически обусловленных стереотипных представлений [1]. В этой связи гендер охватывает совокупность социальных и психологических процессов, культурных установок относительно образа мужчины и женщины, их типичного поведения, влияющих на поведение индивида, на выбор его социальной стратегии, он является центральной категорией изучения в лингвистической гендерологии.
В настоящее время гендерные исследования идут по шести направлениям:
– социолингвистические гендерные исследования;
– феминистская лингвистика;
– гендерные исследования, изучающие оба пола;
– исследования маскулинности и фемининности;
– психолингвистическое изучение пола (вместе с биодетерменистским направлением);
– кросскультурные и лингвокультурные исследования [5: 42–43].
Связь между именем и гендерной характеристикой его носителя была отмечена уже в античности: «…так, например, в интерпретации имён мужского или женского рода появилась оценочность: мужским именам приписывалась семантика силы, активности, энергии, а именам женского рода – пассивность и подчинённость». Соответственно, словам женского рода приписываются свойства лиц женского пола, словам мужского рода – свойства лиц мужского пола. Например, грех в немецком сознании ассоциируется с женщиной, так как «грех – слово женского рода, можно предположить, что грамматический род имени активизирует в сознании фреймы, связанные с концептом биологического пола, и участвует в формировании оценочности» [цит.раб.: 38].
Согласно А.В. Кирилиной, часто мы наблюдаем отождествление понятий «человек» и «мужчина». Во многих европейских языках они обозначены одним словом: «man» в английском, «homme» во французском. Имена существительные женского рода, как правило, являются производными от мужских и - 180 - имеют негативную оценочность, в то время, как применение мужского обозначения к референту-женщине повышает её статус; существительные мужского рода могут указывать на лица любого пола; фемининность и маскулинность резко противопоставляются друг другу в качественном (положительная и отрицательная оценки) и в количественном отношении (доминирование мужского как общечеловеческого)» [цит.раб.: 47].
Рассмотрим пример разобранного в работе Т.М. Беловой, концепта «masculinité» («мужественность») во французском языке. «Он представляет собой совокупность следующих когнитивно-семантических признаков: активность, энергичность, смелость (отсутствие таких признаков, как доброта, нежность, характерных для оценки женской гендерной роли)» [2: 2]. Что касается структуры концепта «fémininité» («фемининность») во французском языке, то он образуется следующими когнитивно-семантическими признаками: красота, уродливость, пассивность, глупость, неряшливость, кокетливость, строгость или лёгкость в поведении. Останавливаясь подробно на противопоставлении стереотипа маскулинности и фемининности на примере английского языка («man – woman»), можно заметить, что «первый член данной оппозиции «man» доминирует над вторым членом, так как является сам по себе репрезентативным для целой категории «human being» ( cлово «man» способно замещать всю категорию, то есть указывать на лица мужского и женского пола) [7: 207].
При анализе одушевленных и неодушевленных существительных в английском языке выяснилось, что, несмотря на отсутствие гендерных маркеров, одушевленные существительные автоматически категорируются по полу референта, а неодушевлённые и абстрактные существительные вводятся в поле гендерной репрезентации через приписывание их референтам признаков, трактуемых как маскулинные и фемининные» [цит.раб.: 849]. Например, названия красивых и грациозных животных соотносятся с женским родом, а названия сильных и агрессивных – с мужским. Приписывание женского рода может осуществляться на основании отрицательных качеств (слабость и хитрость), а приписывание мужского рода может быть позитивным (сила и масштаб) и негативным – при репрезентации предмета как чего-то огромного и неприятного. Более того, «маскулинность» и «фемининность» нельзя заменить русскими понятиями – «мужественность» и «женственность», поскольку русское слово «мужественность» обозначает не столько совокупность мужских качеств, сколько морально-психологическое свойство, одинаково приветствуемое у обоих полов.
Гендерная маркированность языка в первую очередь проявляет себя в переводе в силу асимметрии языковых систем, которая предполагает, что одно и то же существительное в разных языках может относиться к разным родам. Яркий пример проявления этой асимметрии, влияющей и на семантику перевода – басня «La Cigale et la Fourmi» Жана Лафонтена и её перевод на русский язык «Стрекоза и муравей», выполненный И. А. Крыловым. В оригинале «муравей» женского рода. К женскому роду относится и слово «стрекоза», означающее южную неумолчную певунью цикаду. Муравья французы, как и мы, испокон веков считают образцом трудолюбия и домовитости. Поэтому у Лафонтена очень легко и изящно сложился образ двух болтающих у порога муравьиного жилища женщин-кумушек: хозяйственная муравьиха отчитывает легкомысленную певу- нью цикаду. В русском же варианте басни изменилось основное: одним из беседующих оказался «крепкий мужичок», а никак не «кумушка». Соответственно, вместо перевода И.А. Крылов написал новую, уже собственную басню. В ней всё не похоже на Лафонтена: разговор происходит не между двумя кумушками, а между соседом и соседкой, между „скопидомом“ муравьём и беззаботной «попрыгуньей» стрекозой.
«Не оставь меня, кум милый!» — пищит она.
«Кумушка, мне странно это!» — отвечает он [6: 45].
Следовательно, этот вариант басни невозможно назвать переводом, поскольку содержание оказывается сильно искажённым из-за смены пола персонажей. Это заимствованное, но новое по своему смысловому наполнению произведение.
Далее, в переводе (Б. Заходера) произведения «Винни-Пух и все-все-все» А. Милна имя Винни оказывается мужским, и то, что оно на самом деле женского рода в оригинале, большинству русских читателей неведомо. Единственный намёк на это, оставшийся у Заходера, – указание на медведицу в зоопарке, в честь которой назван Винни-Пух [4: 2]. Пух – это прозвище, поскольку перед ним следует определенный артикль: Winnie-the-Pooh, как перед прозвищами королей и эпических героев. Комизм имени состоит не только в гендерной инверсии, но и в несоответствии эпической формы имени его случайному содержанию. Если бы это был русский медведь, его возможно звали бы Винния Пыхович.
Перейдём к переводам сказки Л. Кэрролла «Алисы в стране чудес», которая является полигоном для переводческих решений. У Л. Кэрролла присутствуют как минимум четыре персонажа мужского пола, именования которых в словарном переводе на русский язык приобретают грамматический женский род: Mouse, Caterpillar, Dormouse, the Mock Turtle (Мышь, Гусеница, Соня, Фальшивая Черепаха). Больше всех повезло the Mock Turtle : большинство переводчиков поняли необходимость передать мужской пол персонажа. «Возможно, благодаря эксплицитности контекста: the Mock Turtle и его соученик Грифон предаются воспоминаниям о школе, а в XIX веке ни в Англии, ни в России юноши и девушки не обучались в школах совместно. Следовательно, оба рассказчика должны быть одного пола» [цит.раб.: 3]. Несчастный Dormouse также поменял пол у переводчиков, видимо, под влиянием русского женского имени Соня. Два переводчика пытаются употреблять слово “Соня” в мужском роде, добавляя к нему слово “зверек” (В. Набоков, Н. Старилов), и только А. Кононенко подыскал любопытный вариант замены: Сурок. Вариант А. Кононенко удовлетворяет всем основным условиям функциональной эквивалентности: это название грызуна, оно мужского рода и также связано с темой сна («спит как сурок»).
На наш взгляд, гендер всегда важен для понимания событий, и при переводе нельзя им пренебрегать (конечно, есть исключения, но они чрезвычайно редки). Стремление переводчиков цепляться за словарную точность в ущерб гендерному содержанию образа ничем не оправдано. В каждом случае перевода наименования персонажа нашёлся хотя бы один пример, когда данная переводческая проблема была поставлена и успешно решена: Сурок вместо Сони, Шелкопряд вместо Гусеницы и т. д. Это показывает, что ресурсов русского языка вполне достаточно для решения вопроса о передаче гендерных характеристик - главное, чтобы переводчик его не игнорировал.
Нельзя обойти стороной «Счастливого Принца» О. Уайльда. В первичном и вторичных текстах представлены разные птицы - Ласточка и Скворец. Ласточка из «Счастливого принца» изначально была мальчиком Swallow. Подобное родовое несоответствие осложняет жизнь переводчикам и отдаляет перевод от оригинала. Заменяя Скворца на Ласточку, не удаётся ограничиться лишь грамматическими и малыми лексическими правками: приходится менять и характеры, и манеру речи, и даже сам рассказ. «Счастливый принц» начинается с истории любви девочки-тростника Reed и мальчика-ласточки Swallow, в русском варианте - мальчика Тростника и девочки Ласточки. В тексте-оригинале автор-повествователь конкретен, чёток в создании характеристики второстепенных героев. Во вторичных текстах выявлены дополнительные, эмоциональные оттенки в оценке, функция которых - передать отношение автора к героям и героев к Счастливому Принцу.
Практика игнорировать авторскую гендерную идентификацию персонажа и исходить вместо этого из буквального русского перевода его именования в некоторых случаях приводит к нелепым искажениям восприятия. Самый любопытный пример - это Багира из «Книги Джунглей» Р. Киплинга. «Багира в оригинале - это самец. Имя Bageerah мужское. В оригинале образ Багиры совершенно однозначен - это герой-воин, снабжённый ореолом романтического восточного колорита. Он противопоставлен Шер-Хану как благородный герой разбойнику. Отношения Багиры и Маугли в оригинале - это отношения мужской дружбы, а вовсе не материнства/сыновства» [цит.раб.: 4]. Превращение Багиры в самку делает ясный и прозрачный киплинговский сюжет затруднительным для понимания. Такая трактовка образа Багиры влечёт к искажению смысловой оси всей новеллы: при женском облике Багиры ревность Маугли меняет вектор, и вся психологическая драма приобретает непредусмотренные зоофильские тона.
Нельзя не подчеркнуть, что перевод Н. Дарузес (как и перевод «Винни-Пуха» Б. Заходера) воспринимается как канонический. Для того, чтобы перевести и Р. Киплинга и А.А. Милна с учетом гендерных особенностей, нужны столь же гениальные переводчики, иначе последние переводы заведомо проиграют (так называемая инерция первого впечатления).
«Наблюдения над гендерными сдвигами в русских переводах выявляют курьезную картину: во всех без исключения случаях сдвиг происходит в одном и том же направлении - мужской персонаж в переводе превращается в женский. Возникает искушение истолковать эту тенденцию как своеобразную советскую «политкорректность» - стремление разбавить мужскую компанию женскими образами. Но при разборе каждого конкретного случая за ним не обнаруживается специальных мотивировок - лишь механический подход к передаче имени персонажа и неотрефлексированность гендера как особой переводческой проблемы» [цит.раб.: 5].
В заключении хотелось бы привести примеры переводческих решений, в которых не игнорируется описанная проблема перевода гендера. Это переводы сказок А.С. Пушкина и Ш. Перро, где всегда сохраняется мускулинность/ фемининность во вторичном тексте (например, бес – Lucifer, Чернавка – la Noiraude, Черномор – Noirfléau; La Barbe Bleue – Синяя Борода, Le Petit-Poucet – Мальчик
С-Пальчик и др.). Вопросы гендера занимают несколько страниц в воспоминаниях Норы Галь, автора вторичного текста «Маленького принца». Например, Роза в сказке – женщина; по-русски и по-французски род слова «роза» совпадает. Но в начальных строках, в которых цветок ещё не распустился и герой пока что не знает, что это роза? «Цветок» ( la fleur ) по-французски женского рода, и его женственность заявлена у А. де С. Экзюпери с самого начала. Автор перевода работает старательно над подбором слов, которые могли бы на это указать: “красавица”, “гостья”... [3: 222]. Для образа лисы переводчица выбирает Лиса и убедительно обосновывает свой выбор, заодно демонстрируя, как может меняться смысл текста от гендерной перестановки [цит.раб.: 227].
Таким образом, гендер: категория «маскулинность и фемининность» литературных персонажей являет собой специальную переводческую проблему, которая имеет место быть, заслуживает пристального внимания мастеров перевода и является вполне решаемой.
Список литературы Оппозиция "маскулинность - фемининность персонажей" в переводе художественных текстов
- Антинескул О.Л. Гендер как параметр текстообразования: учебное пособие. Пермь: Пермский государственный университет, 2001. 167 с.
- Белова Т.М. Гендерная метафора как отражение культурного концепта "маскулинность" во французском языке: дис.... канд. филол. наук. Кемерово, 2007. 270 с.
- Галь Н. Слово живое и мертвое. М.: Международные отношения, 2001. С. 222.
- Елифёрова М.В. Багира сказала… Гендер сказочных и мифологических персонажей англоязычной литературы в русских переводах [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://19v-euro-lit.niv.ru/19v-euro-lit/articles-eng/eliferova-bagira-skazala.htm (дата обращения 20.09.2019)
- Кирилина А.В. Гендерные исследования в лингвистике и теории коммуникации. М.: РССПЭН, 2004. 186 с.
- Крылов И.А. Стрекоза и Муравей // И.А. Крылов. Полное собрание сочинений. М.: Гос. изд-во худож. лит., 1945-1946. Т. 3, с. 45.
- Щербакова О. А. Оппозиция "маскулинность - фемининность" и её реализация в языке и речи // Вестник МГЛУ. Вып. 5 (665). 2013. С. 207-221.