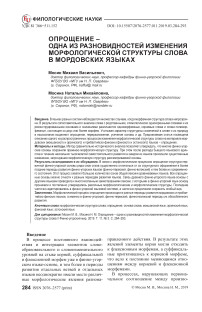Опрощение - одна из разновидностей изменения морфологической структуры слова в мордовских языках
Автор: Мосин Михаил Васильевич, Мосина Наталья Михайловна
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 3 т.11, 2019 года.
Бесплатный доступ
Введение. В языках разных систем наблюдается множество случаев, когда морфемная структура слова непрозрачна. В результате сопоставительного анализа слова с родственными, этимологически однокоренными словами и их реконструированными основами и значениями различаются одноморфемные, корневые слова и слова полиморфемные, состоящие из двух или более морфем. Учитывая характер структурных изменений в слове и их природу в языкознании выделяют опрощение, переразложение, усечение основы и др. Предлагаемая статья посвящена описанию одного из распространенных процессов изменения морфологической структуры слова на материале мордовских (мокшанского и эрзянского) и прибалтийско-финских (финского и эстонского) языков - опрощению. Материалы и методы. Метод сравнительно-исторического анализа позволяет утверждать, что многие финно-угорские основы сохранили прежнюю морфологическую структуру. При этом после распада бывшего языкового единства в течение нескольких тысячелетий самостоятельного развития в каждом из языков произошли существенные изменения, затронувшие морфологическую структуру рассматриваемой основы. Результаты исследования и их обсуждение. В связи с морфологическим процессом опрощения структура первичной финно-угорской основы ряда слов стала существенно отличаться от их структурного оформления в более поздние периоды развития финно-угорских языков (финно-пермский, финно-волжский) и тем более их современного состояния. Этот процесс охватил большое количество основ общей лексики сравниваемых языков. Все опрощенные основы можно отнести к разным периодам развития языков. Связь древнего финно-угорского языка-основы с другими языками приводила к многочисленным заимствованиям лексем, с которыми в финно-угорский язык-основу проникали и постепенно утверждались различные морфонологические и морфологические структуры. Последние частично адаптировались в финно-угорской языковой системе, а частично продолжали сохранять особый вид. Заключение. Морфологический процесс опрощения происходил в разные периоды развития мордовских и прибалтийско-финских языков, а именно в финно-угорский, финно-пермский, финно-волжский периоды их обособленного развития.
Морфологическая структура слова, опрощение, основа слова, мокшанский язык, эрзянский язык, финский язык, эстонский язык
Короткий адрес: https://sciup.org/147217928
IDR: 147217928 | УДК: 81`366=511.152 | DOI: 10.15507/2076-2577.011.2019.03.284-293
Текст научной статьи Опрощение - одна из разновидностей изменения морфологической структуры слова в мордовских языках
В процессе постоянного взаимодействия и интеграции элементов словообразовательного и словоизменительного уровней на стыке корней, суффиксальной и флексионной морфем уже в финно-угорском языке-основе, и тем более в периоды развития отдельных ветвей и отдельных языков неоднократно имели место различные морфологические явления разнона- правленного действия. В результате этих явлений элементы корня могли отходить к флексионным морфемам, а суффиксальные притягивались к корневой морфеме, что вело к постоянно меняющимся отношениям между корневой и флексионной морфемами.
В процессах, нарушающих первоначальное соотношение между произво-
284 ISSN 2076–2577 (print)
дной и производящей основами, распространенным в рассматриваемых языках является опрощение (притягивание суффиксальных элементов к корневой морфеме).
Обзор литературы
В отечественном языкознании на этот процесс впервые обратил внимание В. А. Богородицкий. По его мнению, «опрощение (деэтимологизация) – лексико-морфологическое явление, состоящее в затемнении первоначальной семантической структуры слова вследствие стирания морфологических страниц между его компонентами»1. Позднее, по определению М. Н. Шанского, под опрощением стало пониматься «тесное изменение в морфологической структуре слова, при котором производная основа, ранее распадавшаяся на морфемы, становится непроизводной, нечленимой» [6, 189 ].
В связи с выделением морфемики в особый раздел языкознания, занимающийся изучением морфем в их отношении друг к другу и к слову в целом, данный процесс называют изменением морфемики слова, его морфемного состава, или морфемной (морфологической) структуры [1, 4 ]2.
В мордовском языкознании рассматриваемое явление первоначальное описание получило в работах Д. В. Цыганкина «Исторические изменения в морфемной структуре мордовского слова» [4, 2–24 ], «Опрощенные суффиксальные образования в мордовских языках» [5].
Материалы и методы
В исследованиях отечественных и зарубежных финно-угроведов установлено, что структура непроизводного первичного слова представляла собой следующие типы: CV, VCV, VCCV, CVCV, CVCCV3. Эти структурные типы явились той основой, на которой создавались новые модели для обозначения жизненно важных предметов, понятий и явлений, обеспечивающих преемственность лексического фонда в разные периоды развития отдельных финно-угорских языков, в том числе мордовских и прибалтийско-финских.
Сравнительно-исторический анализ показывает, что многие финно-угорские основы сохранили примерно прежнюю морфологическую структуру. Имеющиеся различия в данной группе слов не выходят за пределы фонетических. Вместе с тем после распада бывшего языкового единства в течение нескольких тысячелетий самостоятельного развития в каждом из языков произошли существенные изменения, затронувшие морфологическую структуру рассматриваемой основы. Ориентируясь на положение о двусложной финно-угорской основе, мы рассмотрим процесс опрощения, «нарушающий» первичное состояние именных и глагольных основ в мордовских (мокшанском и эрзянском) и прибалтийско-финских (финском и эстонском) языках.
Результаты исследования и их обсуждение
Проблема, связанная со структурным оформлением слова в мордовских языках начиная с финно-угорской эпохи, его морфемной членимостью, выделяе-мостью, возможностью расширения при помощи детерминативов, является весьма актуальной. Ее недостаточная изученность ущербно сказывается на разработке словообразования мокшанского и эрзянского языков, их исторической лексикологии и этимологии.
Как известно, степень спаянности словообразующих и основообразующих элементов в разных словах различна. Если в результате морфологического процесса переразложения флективные морфемы подвергались многократным преобразованиям, то в процессе опрощения суффиксальные элементы, сливаясь с корнем, неоднократно преобразовали корневую морфему. Особый интерес в этом отношении представляют те основы, в которых в настоящее время грам-
'Xu ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ матиками данных языков не выделяются действующие словообразовательные морфемы. Во многих случаях сложный характер подобных основ выделяется только при сравнительно-историческом анализе, т. е. при сопоставлении с диалектными формами и соответствиями из родственных языков, восходящими к праязыковым единствам (уральскому, финно-угорскому, финно-пермскому и финно-волжскому). По мнению исследователей, мордовские и прибалтийско-финские (особенно финский) языки лучше сохранили двусложную основу финно-угорского слова. Вместе с тем было бы неверно полагать, что рассматриваемые языки в одинаковой степени сохранили первичную структуру финноугорской основы слова.
Итак, опрощение – это превращение основы слова более сложной структуры в одноморфемную основу, равную корню. Разная степень завершенности данного морфологического процесса в отдельных лексемах позволяет выделить неполное опрощение, или «полуопрощение», и полное опрощение. Примерами частичной членимости основы слова являются:
-
а) префиксальные по происхождению образования, например: э. aparo ‘горе’ ( а – отрицательная частица ‘ не ’ и paro ‘хороший, добро’), alamo ‘мало’ ( а – отрицательная частица ‘ не ’ и lаmo ‘много’); эст. ebausk ‘суеверие’ ( eba – отрицательная приставка ‘не-, без-, недо-, анти-’ и usk ‘вера’), ebavoorus ‘порок’ ( eba – ‘не’ и voorus ‘добродетель’); ф. epäkohta ‘недостаток’ ( ерä – отрицательная приставка ‘не-, без-, недо-, анти- и kohta ‘место’), epäluulo ‘подозрение’ ( ерä ‘анти-’ и luulo ‘мнение’) и т. д.;
-
б) употребление в современных языках в качестве непроизводных слов многих исторически производных слов, образованных путем сложения разных основ, например: мд. kavalalks / kavlal , ф. kainalo , эст. kaenal ‘подмышка’, ю.-эст. kangla ‘плечо, шаль’, yp. *kȣnal ‘подмышка’ (где *kȣn – ‘плечо’ и * аl – ‘низ’); мд. šukšpr ’a ‘сорная куча, место, куда выкидывают мусор’ ( šukš ‘мусор’ и pr’a ‘голова, верхушка’), ф. keskiviikko ‘сре-
- да’ (keski – ‘центральный, средний’, viik-ko ‘неделя’), ф. keskiyö ‘полночь’ (kes-ki – ‘центральный, средний’ и yö ‘ночь’) и т. д.; эст. heakord ‘благоустройство’, (hеа ‘добро’ и kord ‘порядок’), silmnägu ‘лицо’ (silm ‘глаз’ и nägu ‘лицо’) и т. д.
При неполном опрощении, или «полуопрощении», в производной основе слова выделение морфем возможно, однако они значительно изменили первичное значение.
Полное опрощение заключается в том, что исчезает морфемный шов в основе слова между корнем и аффиксом, т. е. производная основа становится непроизводной. Например: уp. *s’iδ’з или s’üδ’з ‘сердце’ > доперм. *süδämȣ представлено с опрощенной структурой основы, ср.: мд. s’ed’eј, диал. s’ed’eŋ, s’ed’i, ф. sydän (sydäme-), эст. süda (südame-) ‘сердце’. В данном случае финно-угорский деэтимологизированный суффикс *-mȣ в рассматриваемых языках преобразовался в такие варианты, как мд. -ŋ., -ј, -v, -i, ф., эст. -n, -mе, -m и окончательно слился с древним финно-угорским корнем *s’iδ’з или s’üδ’з, вследствие чего образовались приведенные выше опрощенные варианты основ. В настоящее время эти основы в данных языках выступают как производящие, ср.: мд. s’ed’eјbel’ks, диал. s’ed’eŋbel’ks ‘брат, сестра, любимый, родной’, s’ed’eјškava ‘сердечно’, s’ed’eјalks ‘подложечная впадина’, ф. sydänälä ‘подложечная впадина’, sydänmää ‘периферия’, sydänpuu ‘сердцевина’, sydämellinen ‘сердечный’. В эстонском языке в номинативе единственного числа выступает усеченная форма süda ‘сердце’, однако производные образовались через опрощенную основу südame-: südames ‘в душе’, südametus ‘бессердечность’, südamik ‘сердцевина’, südamlik ‘сердечный’. В мордовских языках слово lovaža ‘кость, труп’ следует считать опрощенной основой, так как выделение в нем корня lоvа- и словообразовательного аффикса -žа возможно только при сравнении с ф. luu, эст. luu из ур. *luve̮ ‘кость’. В финском слове pähkinä, pähkimä ‘орех’ морфемный шов между корнем pähki- и суффиксом -nä / -mä также можно определить только при сопоставлении с мд. pešt’e, эст. pehkel из ф.-п. *раškз ‘орех’ и т. д.
Исходя из характера исчезнувших морфем и морфемных швов в общей лексике сравниваемых языков можно выделить несколько структурных типов опрощения. Первый структурный тип – исчезновение морфемной границы между компонентами сложного слова и, следовательно, превращение его в простое. Иначе этот тип опрощения называется композитным. Примерами композитного опрощения могут быть: ур. * kȣnal ‘подмышка’ (где * kȣn должно было означать ‘плечо’, * аl ‘низ, под’), отсюда мд. kava-laks / kavlal – ф. kainalo , эст. kaenal ‘подмышка’, ю.-эст. kangla ‘плечо’, ‘шаль’; мд. s’el’ved’ ‘слеза’ ( s’el’me ‘глаз’ и ved’ ‘вода’), эст. s’ilma-vesi ‘слеза’ ( silma ‘глаз’ и vesi ‘вода’); мд. kumbr ’a ‘улитка’ ( kujin’рr ’а ‘змеиная голова’), эст. veski ‘мельница’ (от vesi ‘вода’ и kivi ‘камень’), отсюда фамилия Veski (ср.: мд. ved’gev ‘мельница (водяная)’ и т. д.
Второй тип – исчезновение границы между основой (корнем) слова и словообразовательным суффиксом (деривативное опрощение). В данном случае происходит полное опрощение. Например, ур. *n’oma-lз ‘заяц’ в мордовских и саамском языках представлено только с деэтимологизированным суффиксом -lo / -l: мд. numolo / nomol, с. njoam-mel ‘заяц’. Это слово в данных языках воспринимается как непроизводное. От осложненной опрощенной основы no-molo / numol в мордовских языках засвидетельствованы именные производные образования numolkaj (в фольклоре звательная форма) и numolne, numolkajn’e ‘зайчонок’. В самодийских языках соответствие указанного слова выступает без дополнительного словообразовательного суффикса в виде: н. n’āwa, ск. n’oma ‘заяц’, yp. *kin’elз или *kün’elз ‘слеза’ > ф. kyynel, с. gânjâl, однако ср.: удм. кыли: син-кыли (синоним ‘глаз’), венг. kön-ny ‘слеза’. В финском и саамском произошло полное опрощение основы: корень *künje- и деэтимологизированный суффикс *-lз (на прибалтийско-финском уровне -l ~ -le) вовсе не вычленяются, ср.: эст. küünel, вепс. kün’al, лив. kin’d’ə̑l ‘слеза’. Например, в финском от kyynel засвидетельствованы новые производные: kyyneleinen ‘слезливый’, kyynelpa-ju ‘плакучая ива’, kyynelpisara ‘слезинка’, kyyneltyä ‘прослезиться’.
Уже в общефинно-угорский языковой период происходит процесс притягивания суффиксальных элементов к корневой морфеме, вследствие чего первичные четырехэлементные основы приобретают дополнительные форманты и становятся шестиэлементными. В более поздний период развития языков они выступают уже как целостные структуры, поэтому не всегда представляется возможным считать их как сочетание корня + аффикс. В таких случаях следует констатировать, что финно-угорский основообразующий формант (деэтимологизированный элемент) еще в финноугорский период развития данных языков вошел в состав корня, который подвергся процессу опрощения и предстает в современных языках как новая структурная единица, ср.: мд. čejer’ / šejer’ ‘мышь’, ф. hiiri , эст. hiir (ф.-у. * šiŋere ). В связи с этим соотношение производящей и производной основ в финно-угорском и финно-волжском, а тем более в современных, языках изменяется. То, что на финноугорском уровне явилось производной основой, на финно-волжском, а также на современном уровне, в силу процесса опрощения корня предстает в качестве производящей основы, выступающей как исходная для различных производных образований. Описание морфологической структуры слова в целях осуществления ее морфологического членения следует реализовать путем использования этимологической соотнесенности, т. е. путем восстановления системы соотносительных связей, оказавшихся разорванными в процессе развития того или иного отдельного языка.
Так, наличие в мордовской основе r’ivez’ деэтимологизированного суффикса -z’ и его первоначального четырехэлементного корня r ’ive устанавливается благодаря этимологической соотнесен-
'Xu ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ности с финским repo ‘лиса’ из финноугорского * repä (s’з ) ‘лиса, лисица’. При осуществлении морфологического членения слова в том или ином языке или в группе языков целесообразно использовать не только материал близкородственных языков, а также данные более отдаленных языковых ветвей, заимствования из других языковых семей и древнюю первичную структуру финно-угорской основы. Например, наличие четырехэлементной структуры первичной основы (корня) s’el’e- и деэтимологизированного суффикса -j , -ŋ / -i в мордовском слове s’el’ej , диал. -s’el’eŋ / -s’el’ei ‘вяз’ можно восстановить только в процессе этимологической соотнесенности с марийским šol , šolo ‘вяз’, ф. salava ‘ракита’, эст. halapaju ‘ива’ (из ф.-у. * s’аlа ‘вяз’). В слове ф. orava , эст. оrav ‘белка’ основу ora- и суффикс ф. -vа , эст. -v можно выделить при сопоставлении с мд. ur , мар. ur , к. ur (из ф.-п. *оrа ‘белка’) и т. д.
Если процесс опрощения охватывает финно-угорскую основу исключительно во всех родственных языках, то критерием выделения в ней древней модели корня и аффикса может служить только положение о первичной трех-, четырех- и пятиэлементной структуре финноугорской основы, например: мд. s’ejel’ , ф. s iili , эст. siil (< siili ) < ф.-y. * sije = (le-) ‘еж’; э. r ’ivez , эст. rebane (rebase-) < ф.-у. * repä = (s’з ) ‘лиса’ и т. д.
Третьим структурным типом опрощения является втягивание словоизменительного суффикса в непроизводную основу. Этим процессом охвачены, главным образом, наречийные и послелож-ные образования.
В качестве примеров такого типа опрощения можно привести следующие слова: мд. kotst / kotf ‘ткань’; формы kotst / kotf восходят к глаголу kodams ‘ткать’ и словоизменительному суффиксу -st / -f. Первоначально, вероятно, была форма *kodavkst ‘результаты тканья, что-то сотканное (холст)’, kodaf ‘тканый’, ср.: ф. kude ‘ткань’ от kutoa ‘ткать’, эст. kude ‘ткань’, kuduma ‘ткать’; мд. kunst / kunf ‘навзничь’, ср.: ф. keno; рää kenossa ‘голова откинута назад’, эст. kenus ‘высоко- мерный (о человеке)’ < ф.-у. *konз ‘навзничь’; мд. per ’t’ / per’f ‘вокруг’, ср.: ven’ber’t’ / ven’ber’f ‘всю ночь, в течение всей ночи’. Данная форма в SKES связывается с мд. pir ’e / per ’ä ‘огород’, образованным от глагола pir ’ams / реr ’аms ‘загородить’, отсюда рir ’avt / per ’aft ‘изгородь’, впоследствии per’t / per ’f ‘вокруг’; мд. э. pečt’ ‘кусок (хлеба)’, возникшее как усеченная форма от pečkevt’ ‘результат отрезанного’ из глагола pečkems ‘резать’ и словоизменительного суффикса -vt’; мд. ičkəz’ä (ičkəzä) ‘далеко’, ср.: ф. etä: etäänä ‘далеко’, эст. ette ‘вперед, наперед’.
В связи с морфологическим процессом опрощения, структура первичной финно-угорской основы ряда слов существенно стала отличаться от их структурного оформления более поздних периодов развития финно-угорских языков (финно-пермского, финно-волжского) и тем более их современного состояния. Этот процесс охватил заметное количество основ общей лексики сравниваемых языков. Исходя из того, к какому периоду общности финно-угорских языков относится аффикс и в каких ветвях языков он наличествует, все опрощенные основы можно отнести к разным периодам развития данных языков.
Основы, ставшие опрощенными в период финно-угорской общности
Учитывая первичную двусложную структуру основы праязыка, состоящую из трех, четырех и пяти элементов, в некоторых лексических соответствиях можно выделить следующие дополнительные морфемы в виде словообразовательных суффиксов или отдельных слов:
*-m. Данный деэтимологизированный суффикс в мордовских языках выступает в виде -m, -mе, -j, -ŋ, -i; в финском и эстонском – -n (< -mе-) в следующих основах: мд. ud’em / ud’еmе, ф. ydin, ср.: диал. yti, yty, эст. üdi, венг. velö ‘мозг’ < ф.-у *wiδз – (mз) или *wüδз – (mз) ‘мозг’; мд. ez’em / ez’əm ‘скамейка’, ф. aseme, asen (род. asemen), эст. аsе (aseme-) ‘место’, ср.: доперм. *äsVmV ‘станция, стоянка’; мд. s’еd’еj / s’ed’i, ф. sydän (sy- däme-), эст. süda (südame-), ср.: доперм. *süδämз < yp. *s’iδ’з или süδ’з ‘сердце’;
-
* -s’з < мд. -z’ , эст. -ne (< se- ): мд. r’ivez’ , эст. rebane ( rebase- ), ср.: ф. repo < ф.-у. * rерä (s'з ) ‘лиса’. В эрзянском слове r’ivez’ выделяют именной суффикс -z’ из ф.-у. * -s [8, 196 ];
-
* -l’ < мд. -l’ , ф., эст, -lе- > мд. s’ejel’ , ф. siili ( siile- ), эст. siil ( siili- ), ф.-у. * s’ijele ‘еж’; мд. es’kil’ams / as’kəl’ams ‘шагать’, отсюда впоследствии as’kel’ks / as’kəl’ks ‘шаг’, ф. askel ( askele- ) ‘шаг’, эст. askel-dama ‘хлопотать’, ср.: мс. usil ‘шаг’ (до-перм. * ač’kȣl ) (КЭСК 64). В данном слове выделяется именной суффикс финно-угорского происхождения * -l [7, 39].
-
* -ra > мд. -r’ , ф., эст. -re , -ri , -r : мд. čejer’ / šejer’ , ф. hiiri ( hiire- ), эст. hiir ( hiire- ) ‘мышь’ < ф.-у. * siŋe-(re) ‘мышь’; мд. s’ejir’ / s’äjär ’ ‘большая берцовая кость’, ‘голень’, ф. sääri , эст. säär ‘голень, берцовая кость’ (доперм. * č’äjärз , ср.: венг. szar ‘стебель, стержень, голень’, мс. sar : kät-sar ‘кисть руки’).
Основы, ставшие опрощенными в период финно-пермской общности
-
* -r > мд. -r’e , диал. -r ’e , ф. -rä , эст. -r : мд. ken’er’ / ken’ər’ ‘локоть’, ф. kyynärä , эст. küünar, д оперм . * kün’ȣr ‘локтевая кость’ < ф.-у. * kün’ä (* kin’ä ) или künä (* kinä) ‘локоть’. В КЭСКЯ отмечается, что элемент * -r , восходящий к финнопермскому периоду, представляет собой в данном слове словообразовательный суффикс;
-
* -č > мд. -č / -š , ф., эст. -s : мд. kr’enč / krandə̑š , ф. kaarnis , эст. kааrnes , мар. kur ’anə̑ž , удм. kirnidž ‘ворона’, ср.: са-мод. harna ;
-
* -ala ‘нижний, нижняя часть’ > мд. * -аl- , ф. alo , эст. аl : мд. kavalalks / kaval ‘подмышка’ – ф. kainalo , эст. kаеnal , удм. kun : kun-ul , доперм. kȣnal ‘подмышка’, где kȣn должно было обозначать ‘плечо’, мс. xanə̑l < ур. * kаnз ‘подмышка’;
-
* dekaan < и.-е. dekm’ ‘десять’. Данное слово выступает как словообразовательная морфема в числительных: мд. kavk-so / kafksa , ф. kahdeksan , эст. kaheksa ‘восемь’; мд. vejkse / vejx̧ksȃ , ф. yhdeksän , эст. üheksa ‘девять’. По мнению иссле-
- PHILOLOGY
дователей, они возникли в результате сложения финно-угорских основ * kakta ‘два’, * ükte ‘один’ и * deksan < и.-е. -dek̂m ‘десять’ [3, 166 ]4.
Основы, ставшие опрощенными в период финно-волжской общности
Именные основы:
-
* mз > мд. n’e / n’ä , j , m , ф., эст. n (< mе-) : мд. ez’n’e (< ez’e-n’e ) / jäz’n’ä (< jäz’-n’a ) ‘сустав’ – ф. jäsen , эст. jäsa ( jäseme- ), мар. jažəŋ , ср.: удм. joz , венг. iz , доперм. jäsз ‘сустав’; мд. lokse’ej / loks’t’im ‘лебедь’, ф. joutsen , эст. диал. jôudsin , ср.: joos , jues , удм. jus , к. jus ‘лебедь’ < ф.-у. * joŋkc’e̮ ‘лебедь’;
-
* -n (* -n’ ) > мд. -n’ , ф. -nen : мд. kеmеn’ / kemtn’ ‘десять’, ф. kymmen (диал. kum-menä ) ‘ладонь’, эст. kümme , кар. диал. küme , лив. kim ‘десять’;
-
* ks > мд. -kš , ф. -s (< кsе- ), эст. -s ( -se ): мд. kenkš ‘дверь’, ф. kynnys ( kynnykse -), эст. künnis ( künnise- ) ‘порог’;
-
* -r > мд. -ra , -r’e , ~r, r ’ , ф., эст. -ra , -rä , ~r : мд. čovar / šovar, ф. huhmar , эст. uh-mer , ср.: мар. šųv·r ‘cтупа’; мд. ukštor(o) / uštə̑r , ф. vaahtera , эст. vaher ‘клен’, ср.: мар. ba·štar ‘клен’; мд. kičker’e / kičkə̑r’ ‘кривой, согнутый’, ф. kahkerä ‘выпуклый’, ср.: мар. kəškär ‘катушка’; мд. диал. kodara / kodrə̑ks ‘стебель’, ф. ketara ‘ковыль’, эст. kodar , kodaras ‘спица’;
мд. -ro / -r < * r : komoro / komor ‘горсть, пригоршня’, ф. -lо , эст. -l < ф.-у. * -l : ф. kah-malo , эст. kamal , ср.: к. kamyr ‘горсть’, с. chammara ‘рука’; мд. -r < ф.-у. * r , -v / -u < общеморд. ŋ < ф.-у. * -k : šukštorov / šukštoru ( r-u ) ‘смородина’, эст. - k , - kas < ф.-у. * kk + s (неясного происхождения): sitik , sitikas ‘черная смородина’, ср.: x. čapč < ф.-у. * čopčз ‘смородина’;
-
* -l > мд. м. -l , ф., эст. -l , -lо : мд. диал. корə̑l ‘полукруглое долото’, ф. koveli , эст. kômel ‘тесло’, ср.: мар. koßə̑ ‘рубанок’; м. диал. kovə̑l ‘корыто’, ф. kauka-lo , эст. kaugal ‘плоскодонка, челн, корыто’; мд. -l образовался, вероятно, из ф.-у. именного * -l : э. диал. коvol , ф. -r <
'Xu ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ф.-у. * -r : kumuri ‘маленькое облако’, ср.: удм. ki̮me̮r ‘облако’, эст. kumu ‘сверкание, мерцание’;
мд. -c’a < ф.-у. * -c ’: kur’c’a / kə̑r’c’ä , ф. nto , эст. nd < ф.-у. * -nt : ф. korento , эст. kȏrend ‘коромысло’, ср.: к. ker ‘бревно’, венг. hord ‘нести’;
мд. -n (неясного происхождения): kuc’kan ‘орел’, эст. -а , вероятно, из ф.-у. * ks : kotkas ‘орел’, ср.: ф. kotka < ф.-п.* kočka ‘орел’;
мд. -n’ (неясного происхождения): čovon’ ‘затылок’, ф. -ra , эст. -r < ф.-у. * r : hamara , эст. ham(m)ar ‘обух (топора, ножа)’, ср.: мд. čov / šov ‘обух топора’;
мд. -c’a < * c ’: n’evin’c’a / n’emən’cä ‘отруби’, ‘мякина’; ф. - tti : lemetti ‘шелушащееся зерно’, ср.: эст. lemm ‘шелуха, хлопья’;
мд. -v < ф.-у. * -k : čučav ‘блоха’, ф. -r < ф.-у. * -r : sonsar ‘блоха’, ср.: мд. диал. šučaga , мар. šuršə̑ , мс. suns < ф.-у. c’ončз ‘блоха’; мд. -j , -n / -i из общемордовского * -ŋ восходящего к ф.-у. * -k : s’el’ej , э. диал. s’el’eŋ / s’el’i ‘вяз’, ф. -ya < ф.-у. * -р : salava ‘ива (ломкая)’, ср.: эст. hala -, halapi ‘ива’, мар. šol , šolo < ф.-у. * s’ala ‘вяз’.
Глагольные основы:
мд. amol’d’ams / amə̑l’d’ams , ф. am-mentaa , ammultaa , эст. ammutama ‘черпнуть, зачерпнуть’ состоят из первичной основы: мд. amo- / amə -, ф. ammo , ammu , эст. ammu , элемента -l ~ -n и отглагольного суффикса: мд. -da / - d’a , ф., эст. -ta , восходящего к финно-угорскому отглагольному суффиксу * -t [2, 375 ], ср.: ф. amme ‘ванна, чан, кадка’, эст. anum (метатеза * ammun ) ‘сосуд’;
мд. jovtams / joftams , ф. jutella , эст., jutlema ‘сказать’: вероятно состоят из первичной основы; мд. jov- / jof- , ф. ju- , эст. ju- , ср.: доперм. * jȣvȣ- ‘известие’, мд. jovks / jofks ‘сказка’ и финно-угорского отглагольного суффикса * -t с каузативным значением [2, 375 ];
мд. uksnoms / uksə̑ndə̑ms , ф. oksentaa эст. oksendama ‘рвать, блевать’ состоят из основы: мд. uks- / oks ’ - , ф. okse- , эст. okse- , ср.: доперм. * oksз- ‘рвать, тошнить’ и финно-угорского отглагольного суффикса * -nt [2, 371 ], ср.: мар. ukšinčaš
‘рвать’. В мордовских языках данный суффикс выражает многократное или длительное действие и выступает в виде -no , -n’e / -nd , -n’d’ .
Основы, ставшие опрощенными в мордовских языках
Именные основы:
-
- s’ , возможно, из ф.-у. *- s’ : мд. м. ka-ves ’ / pan’žamgaves’ ‘муравейник’, ср.: ф. kavea , kave ‘суслон, бабка’;
-
- do /- da < ф.-у. * -t : мд. kalgodo / kalgə̑da ‘твердый, жесткий’, ср.: ф. kalki, эст. kalk , kalg , kale , kaleda ‘твердый, жесткий’;
-
- v / -u < общеморд. - ŋ ф.-у. *- k : мд. kulov / kulu ‘зола’, ср.: ф. kulmu , kulo ‘засохшая прошлогодняя трава’, эст. kulu ‘отава’, венг. hamu < ф.-у. * kul’mз или kuδ’mз ‘зола, пепел’;
-
- ka , возможно, из финно-угорского * kka : м. диал. kumoka ‘температура’, ср.: ф. kuuma , эст. kuum ‘жаркий, горячий’;
-
- ža . И. С. Галкин5 вслед за Т. Лехти-сало [8] возводит данный суффикс к ф.-у. *- s : мд. kumanža , э. диал. pul’aža / plmanža ‘колено’, ср.: ф. polvi , эст. põlv , мар. polβui ‘колено’ ( βui ‘голова’) < ур. * polwe̮ ‘колено’. Суффикс -ža можно выделить также в словах: lovaža , э. ‘кость’, м. ‘труп’, ср.: ф., эст., мар. luu < ур. * luve̮ ‘кость’; мд. l’ipuža ‘цены’ (две линеечки между нижним и верхним настилами основы), ср.: ф. lippi , эст. lipits ( -tea ), диал. lipp ( lipu- ) ‘рейка, планка’;
-
- n ’ ∽ n (возможно из ф.-у. *- n ): мд. nu-pon’ / nupə̑n’ диал. lupon’ ‘мох’, ср.: ф. lup-po , luppa , кар. luppo ‘бородатый лишай’; мд. s’ovon’ / s’ovə̑n’ ‘глина’, ср.: ф. savi , эст. savi , диал. sau ‘глина’; мд. vakan ‘миска деревянная, глиняная’, ср.: ф. vakka ‘лукошко’, эст. vakk ‘деревянная посуда’
-
- l , вероятно, восходящий к финно-угорским отыменным *- l и - v : мд. t’evel’av / t’evlav , ср.: ф. tävy , эст. tew , диал. tavi ‘легкое’ < ур. * täw3 ‘легкое’; мд. э. čevgel’ ‘калина’, ср.: мд. м. čävgä , мар. šaršə̑ , ф. heisipuu ( puu ‘дерево’), эст. oispuu ‘калина’ ф.-п. * šewз ‘калина’;
- mo / - m < ф.-у. *- m : мд. s’ulgamo / s’ulgam ‘застежка (принадлежность мордовского женского костюма)’, ср.: ф. soi-ki , эст. sõlg ‘брошка, застежка’.
Загадочной представляется структура опрощенной основы мд. copaca / sopaca ‘призрак, привидение’. Вероятно, она состоит из морфем copa + ca , ср.: ф. huu : huunpurema , huunhaukko ‘синее или черное пятнышко на коже’, к. диал. sen ‘душа мертвого’ < ф.-п. * suye ‘душа, призрак, тень’.
Глагольные основы:
мд. ay : ayks’ima , avs’ima / ant’sama ‘прорубь’, вероятно, состоит из первичной основы ayk- / av- и суффикса -s’(e)- / -s’(a)- , выражающего значение повторяемости или многократности, и - ma , выражающего значение конкретного предмета, служащего орудием, объектом действия; восходит к ф.-у. *- m , ср.: ф. ava-ta , эст. avama ‘открывать’, ф. avanto ‘прорубь’, доперм. * aya - ‘углубление, проем’;
мд. ar’s’ems , ar’t’s’ems / ar’s’ams ‘думать’, состоит из первичной основы * ar - и суффикса - s’(e) -, - t’s’(e) -, -s’(a) , ср.: ф. arvata , эст. arvama ‘думать, полагать’, венг. ar ’ - ‘цена’. Данный глагол в мордовских языках употребляется только в многократной форме, если не связывать его с глаголом ara-ms ‘стать (занять какое-либо положение)’: arams vepel’ev ‘стать в сторону’ (ЭРВ);
мд. oznoms / ozandams ‘молиться’: первичная основа oz - / oz - и суффикс многократности - n / - ndt , ср.: oska / ozka ‘моление’ доперм. * os3 -, ф. uskoa , эст. uskuma , а также мар. ytанаш ‘молиться’;
мд. ven’emems / ven’amama ‘вытянуться’: состоит из основы ven’e / ven’a - до-перм. * wen’e и отглагольного суффикса - me , восходящего к ф.-у. *- m , ср.: ф. ve-nyä ‘растянуться’ [8, 114 ];
мд. ponzavtoms / pon’dzaftams ‘веять’: состоит из основы ponza - и суффикса -vt(o ) / -ft(a) с каузативная значением, исходящего к ф.-у. *- kt , ср.: ф. pohtaa ‘веять’. В большинстве случаев в мордовских языках простые глагольные основы стали производными (опрощенными) в результате присоединения к ним суффикса - d / - d’ , восходящего к финно-угорскому
PHILOLOGY отглагольному *- t с понудительно-переходным и возвратным значением [2, 375 ]. К ним можно отнести: мд. kapud’ems / kapad’ams ‘схватить (обеими руками)’, ср.: ф. kaapats , эст. kaapama ‘хватать’, мд. komat’ams ‘прыгать’, ср.: ф. kimma ‘упругость’; э. luvod’ems ‘оторваться, отклеиться’, ср.: ф. lonka : olla longallan-sa ‘быть на боку’, эст. long : lonkus ~ longus ‘пониклый, повислый’; мд. londa-doms / londadams ‘осесть, опуститься’, ср.: ф. lone ‘долина’, эст. lont / lunt ‘лощина’; мд. luzadoms / luzadams ‘утомляться’, ср.: ф. luhi ‘ущерб, вред’, luhistua ‘утомляться’; мд. orgod’ems / or’gad’ams ‘сбежать’, ф. urjeta ‘уходить’; мд. purdams / parmams ‘повернуть, вертеть’, ср.: ф. puraa ‘пробивать дыру’, эст. pura ‘сверло’ < ур. pura ‘сверлить’, ‘сверло’; мд. puved’ems / puvad’ams ‘мять, трепать (лен)’, ср.: ф. pui-da ‘крошить, дробить’; мд. ser’ed’ems / s’dt’dd’ams ‘болеть’, ср.: ф. sarkea ‘болеть’; эст. särgema (финское заимствование), доперм. * sVr3 : tšar’kod’ems ‘понимать, догадываться’, ср.: ф. harkia , harkita ‘обдумывать, продумывать’, эст. harjuma ‘привыкать, свыкаться’;
мд. topod’ems / topad’ams ‘насытиться’, ср.: ф. topata ‘набивать, набить’; э. tona-doms ‘научиться, привыкнуть’, ср.: ф.? tottu (? < * tonttu ) ‘учиться’ < ф.-у. * tona -‘привыкнуть, учиться’, ср.: мд. tonav-toms / tonafttms ‘научить’.
Древний финно-угорский язык-основа не мог быть и не был полностью изолирован от окружающего языкового мира. Его связь с другими языками приводила к многочисленным заимствованиям лексем, с которыми в финно-угорский язык-основу проникали и постепенно утверждались различные морфонологические и морфологические структуры. Они (можно допустить) частично адаптировались в финно-угорской языковой системе, а частично продолжали сохранять особый вид. Например, нельзя включить в число опрощенных основ древние заимствования из индоевропейских языков, хотя их структура внешне похожа на рассмотренные финно-угорские слова. Они вошли в данные языки в готовом виде, как неделимые основы, например:
Cru' ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ мд. uros / urus , ф. orbo, эст. orb , ф.-у. orpa (s/3) или *orewa (s/3) ‘сирота’ < и.-е., ср.: санскр. arbhas ‘маленький’; мд. purcos / pur't's' , ф. porsas, эст. pôrsas < ф.-у. *pors' a (s) или *porc' a (s) ‘поросенок’ < ин-до-иранск., ср.: лат. porcus, гр. porcos ; мд. sazor , ф. sisar , эст. sôsar < ф.-у. *su-sare ‘сестра’ < и.-е. *suesor , ср.: санскр. svasar ‘сестра’ и т. д.
Заключение
Исходя из анализа морфологической структуры этимологически общей лексики рассматриваемых языков, ее реконструированных форм и значений можно заключить, что морфологический процесс опрощения происходил в разные периоды развития мордовских (мокшанского и эрзянского) и прибалтийско-финских (финского и эстонского) языков, а именно в финно-угорский, финно-пермский, финно-волжский периоды их обособленного развития.
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ венг. – венгерский язык диал. – диалектный вариант доперм. – допермский язык и.-е. – индо-европейский язык к. – коми язык м. – мокшанский чязык мар. – марийский язык мд. – мордовские языки мс. – мансийский язык н. – нганасанский язык
-
с. – саамский
санскр. – санскрит ск. – селькупский язык удм. – удмуртский язык ур. – уральский язык ф. – финский язык ф.-п. – финно-пермский язык ф.-у. – финно-угорский язык
-
э. – эрзянский язык
эст. – эстонский язык ю.-эст. – южно-эстонский язык
КЭСКЯ – Лыткин В. И., Гуляев Е. И. Краткий этимологический словарь коми языка. Москва, 1970.
ЭРВ – Эрзянь-рузонь валкс. Эрзянско-русский словарь / под ред. Б. А. Серебренникова, Р. Н. Бузаковой, М. В. Мосина. Москва, 1993. 830 с.
SKES – Suomen kielen etymologinen sanakirja I– VII. Helsinki, 1955–1981.
Список литературы Опрощение - одна из разновидностей изменения морфологической структуры слова в мордовских языках
- Лопатин В. В. Русская словообразовательная морфемика: Проблемы и принципы описания. Москва: Наука, 1977. 316 с.
- Майтинская К. Е. Сравнительная морфология финно-угорских языков // Основы финно-угорского языкознания. Вопросы происхождения и развития финно-угорских языков. Москва: Наука, 1974. С. 214-381.
- Майтинская К. Е. Историко-сопоставительная морфология финно-угорских языков. Москва: Наука, 1979. 262 с.
- Цыганкин Д. В. Исторические изменения в морфемной структуре мордовского слова // Вопросы языкознания. Саранск, 1975. Вып. 2. С. 3-24.
- Цыганкин Д. В. Опрощенные суффиксальные образования в мордовских языках // Мордовские языки глазами лингвиста-финно-угроведа: сб. избр. ст. 4. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2014. С. 73-79.
- Шанский М. Н. Очерки по русскому словообразованию. Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1968. 310 с.
- Györke J. Die Wortbildungslehe des Uralischen (Primäre Bildungssuffixe). Tartu, 1934. 163 s.
- Lehtisalo T. Über die primären uralischen Ableitungssuffixe // SUST, LVI. Helsinki, 1936. 398 s.