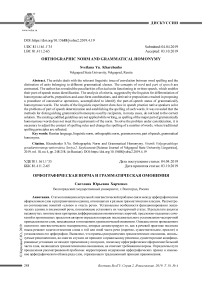Орфографическая норма и грамматическая омонимия
Автор: Харченко Светлана Юрьевна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Дискуссии
Статья в выпуске: 4 т.18, 2019 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена актуальной лингвистической проблеме связи между орфографическим оформлением слов и разграничением единиц, относящихся к разным грамматическим классам. Рассмотрено соотношение понятий «слово» и «часть речи». Установлены особенности функционирования лексических единиц в письменной речи, позволяющие установить их частеречный статус. В результате анализа выдвинутых лингвистами критериев дифференциации омонимичных наречий, предложно-падежных сочетаний и производных предлогов автором определен порядок последовательного установления частеречной принадлежности слов, находящихся в отношениях грамматической омонимии. Описаны итоги проведенного пилотного лингвистического эксперимента, которые демонстрируют то, как в речевой практике носители языка решают задачи отнесения слова к той или иной части речи (наречие, существительное, предлог) и установления его орфографии. Выявлено, что приемы разграничения грамматических омонимов, используемые реципиентами, во многих случаях не приводят к правильному решению, существующие кодифицированные установки не находят применения у пишущих, поскольку орфографическое оформление большей части слов, являющихся грамматическими омонимами, не отвечает требованиям нормы. Определены пути преодоления рассматриваемой проблемы: корректировка содержания орфографических правил и изменение орфографического облика ряда слов, отражающего традиционный принцип правописания.
Русский язык, языковая норма, орфографическая норма, грамматическая норма, часть речи, грамматические омонимы
Короткий адрес: https://sciup.org/149130014
IDR: 149130014 | УДК: 811.161.1’35 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2019.4.19
Текст научной статьи Орфографическая норма и грамматическая омонимия
DOI:
Вопросы орфографического оформления слов, несмотря на существование кодифицированных нормативных установок, продолжают оставаться актуальными и для рядовых носителей русского языка, и для лингвистов. Носители языка в практике письменной коммуникации нередко оказываются в ситуации выбора написания слова из нескольких возможных вариантов и в зависимости от ряда факторов (уровня сфор-мированности языковой компетенции, развития языкового чутья, степени начитанности и др.) принимают решение, отдавая предпочтение правильному или неправильному варианту. Лингвисты свою задачу видят в создании таких орфографических правил, которые максимально оптимизировали бы выбор пишущих при сохранении адекватного отражения языковых связей.
От грамматических характеристик обозначаемых на письме единиц и прежде всего от их частеречной принадлежности зависит решение большей части вопросов одного из разделов русской орфографии – слитных / раздельных / дефисных написаний. Для рядовых носителей языка особую сложность представляют ситуации, требующие разграничения грамматических омонимов и применения орфографических нормативов, нарушающих нормы графики. Предметом рассмотрения в статье послужила орфографическая норма, связанная с дифференциацией омонимичных единиц с позиций морфологических классов.
Исходные положения
Рассматривая письмо как саморазвива-ющуюся систему [Бешенкова, 2016; Wildgen,
1990], лингвисты признают, что нормализатор-ская деятельность в отношении кодификации может проводиться различными способами: совершенствованием правил, изменением графического облика отдельных слов, введением вариантов орфографического оформления лексических единиц. По мнению Е.В. Бешен-ковой, в структурно-системной части письма, противопоставленной его асистемной части, варианты в написании «возникают в предсказуемых точках, обусловленных антиномиями системы» [Бешенкова, 2016, с. 36], в частности, в случаях употребления единиц, относящихся к грамматическим омонимам. В таких ситуациях пишущие нередко задаются вопросом: сколько слов и какую часть речи (или сочетание каких частей речи) им предстоит отразить на письме?
Проблема соотнесения понятий «слово» и «часть речи» языковедами решается неоднозначно, что обусловлено различиями в выборе критериев классификации лексем по частям речи. В истории развития грамматических учений прослеживаются несколько подходов к пониманию сущности частей речи и принципов их выделения в языках различных типов, но, по справедливому замечанию Л.В. Щербы, важна не сама классификация, а установление того, «...под какую общую категорию подводится то или иное лексическое значение в каждом отдельном случае» [Щерба, 1957, с. 64]. Одно и то же слово, считает ученый, может материально фигурировать в разных категориях (например, вблизи может быть наречием или предлогом), поэтому классификация всех слов в языке по частеречной принадлежности не представляется возможной и необходимой, относить слово к тому или иному грамматическому классу следует в каждой конкретной ситуации.
Развитие рассматриваемого вопроса иногда приводит лингвистов к выводу о том, что понятие слóва шире понятия части речи, поскольку, по словам В.И. Куракова, в процессе транспозиции «не слово и не часть речи переходят в другую часть речи, а лишь лексическое меняет свою грамматическую принадлежность» [Кураков, 1998, с. 93]. Именно лексема, по мнению исследователя, переходит из одной части речи в другую, образуя при этом «единство того же самого лексического, но уже с иной частью речи» [Кура-ков, 1998, с. 93], и весьма не бесспорно называть это новообразование новой лексической единицей, в связи с тем что изменение части речи ведет к изменению только отношений, в которые может вступать эта же лексема, поэтому, например, бурить и бурение, приходит к выводу ученый, – это две грамматические формы одной лексемы.
Мы придерживаемся иного взгляда: план выражения лексических единиц, относящихся к разным частям речи, может совпадать, но различия семем (а они обязательно будут наблюдаться у слов разных частей речи) не позволяют объединять их в рамках одного слова. Любые омокомплексы, не обладающие тождественными планами содержания, по нашему мнению, представляют разные слова.
Благодаря трудам В. В. Виноградова, с середины ХХ в. традиционными критериями определения частеречной принадлежности лексической единицы стали считаться характер синтаксического употребления, характер номинации и система грамматических форм [Виноградов, 2001, с. 41–42]. Однако в составленной самим ученым классификации к частям речи относятся только знаменательные слова, а междометия, модальные слова и служебные (частицы речи) в их круг не входят, поскольку не обладают способностью номинации. Взяв за основу традиционную типологию слов (десять частей речи: имена существительные, прилагательные, числительные, глагол, местоимение, наречие, категория состояния, предлог, союз, частица; а также междометия и звукоподражательные слова), обратим внимание на условность ее традиционности. В языке, как непрерывно развивающейся системе, состав той или иной категории слов может меняться, что связано с особенностями функционирования входящих в нее единиц. Первоначально значимый для установления части речи синтаксический критерий со временем становится неосновным, на первый план выходят морфологические при- знаки, но при развитии вторичных синтаксических функций у слова могут происходить изменения в грамматических характеристиках, что, как следствие, приводит к его расщеплению. Для обозначения такой лексической единицы, которая способна выступать в функции разных частей речи, но является единицей абстрактной, Л.В. Малаховским предложен термин «гиперлексема» [Малаховский, 1990, с. 219], однако для рядовых носителей языка он представляется неактуальным.
Учитывая неоднозначные решения вопроса о соотношении понятий «слово» и «часть речи», принимаем следующие трактовки: слово – это единица языка, конструируемая совокупностью лексического и грамматического компонентов; частеречная принадлежность – одна из составляющих грамматического компонента; каждой знаменательной части речи присуще свое общекатегориальное значение, которое выражается в определенных морфологических категориях; слова служебных частей речи классифицируются в соответствии с функциональным критерием.
Грамматическая омонимия и синхронная транспозиция
Вопрос о грамматических омонимах связан с дискуссией о синхронии и диахронии в языке. Если признать, что синхрония – это фрагмент диахронии, имеющий некоторую длительность, а язык развивается непрерывно, то логично предположить, что и в синхронии можно наблюдать процесс образования грамматических омонимов. В рамках настоящей статьи термины «грамматические омонимы» и «функциональные омонимы» употребляются как синонимичные, хотя, несомненно, в исследованиях филологов аргументируется необходимость в их различении [Ав-дина, 2013, с. 205; Ахманова, 1957, с. 165]. Под грамматическими (функциональными) омонимами нами понимаются этимологически родственные слова (в отдельных случаях – слова и словоформы), совпадающие по звучанию, но различающиеся частеречной принадлежностью.
Кроме явных случаев грамматической омонимии лингвисты отмечают существование в языке и речи единиц, содержащих при- знаки разных грамматических классов. Подобные явления находятся в зоне переходности и характеризуются синкретизмом определенных свойств. По мнению В.В. Бабайце-вой, при синхронной переходности, то есть переходности в системе языка в определенный временнóй период, связи между центральными (типичными) категориями создают зону синкретизма с периферийными и промежуточными звеньями [Бабайцева, 2000, с. 27]. В разработанной ею шкале переходности между крайними звеньями А и Б (четко противопоставленными грамматическими омонимами) могут находиться промежуточные звенья Аб, АБ, аБ (относящиеся к ним элементы в равной (АБ) или разной (Аб, аБ) степени обладают признаками каждого из компонентов омонимической оппозиции). Например, синхронную переходность в современном русском языке (как и в другие временные периоды) можно проследить у словоформ существительных и омонимичных им наречий: Любуюсь вечером (звено А – сущ.) – Засыпаю поздним вечером (звено Аб – сущ. с наречным признаком – обстоятельственная функция) – Читаю книги вечером (по мнению В.В. Бабайцевой, это звено АБ, в котором прослеживается равновесие признаков существительного и глагола; в общепринятой трактовке это наречие).
Наибольшую сложность в определении степени перехода из одного грамматического класса в другой представляют омокомплексы, включающие 1) предложно-падежные сочетания в роли обстоятельств и наречия; 2) предложно-падежные сочетания, наречия и предлоги. Компоненты этих омокомплексов встречаются в письменной речи весьма часто: Россияне помоложе, для которых банковские карты и электронные кошельки давно не в новинку , захаживают на почту изредка... (Комсомольская правда, 08.07.2015); Русский господин нехотя удалился с бокалами на отлете (Коммерсантъ, 06.05.2016); Их действительно кормят на убой (Комсомольская правда, 15.07.2008); В России можно будет купить топливо на заправках в рассрочку (Коммерсантъ, 18.09.2019); Двор и его обитатели принимают семейство в штыки , а всему виной вздорный нрав новоселов (Комсомольская правда, 17.06.2010);
Трубу тянули в складчину (Российская газета, 19.06.2019); Кстати, и сама учительница, и одноклассники в шутку называют тезку знаменитого голландца Гусь (Комсомольская правда, 29.03.2018); Слушает Дарья, а у самой сердце на изорвь идет (Е. Кулькин); Случалось, дорога шла на-вздым и там крепчала под солнцем и ветром (Ю. Нагибин).
Анализ исследуемых нами языковых единиц позволил отнести каждую из них к одному из четырех типов.
-
1. Наречия, в современном русском языке уже не соотносимые с предложно-падежными сочетаниями (например, без умолку , без удержу , без просыпу , с панталыку , до зарезу , до упаду , на ощупь , на скаку , в охотку ).
-
2. Наречия, функционирующие в современном русском языке параллельно с омонимичными предложно-падежными сочетаниями ( на дом , до смерти , до отказа , на миг , на славу , на вид , в охапку , с маху , в сердцах , в головах , в розницу , на износ , по праву , по совести и др.).
-
3. Предложно-падежные сочетания, не имеющие в современном русском языке омонимичного наречия, сформировавшегося путем адвербиализации ( до конца , без внимания , на мгновение и др.).
-
4. Предлоги, омонимичные наречиям и сформировавшиеся на базе адвербиализован-ных сочетаний ( без ведома , вслед за , вдали от и др.).
Разграничение омонимичных структур в грамматике
Вопрос установления морфологического статуса лексических единиц и различения грамматических омонимов признавался актуальным со времени создания первых трудов о грамматическом строе русского языка. В середине ХVIII в. М.В. Ломоносов в § 125 «Российской грамматики» указывал на необходимость дифференциации слитных и раздельных предлогов (слитные предлоги позже стали называть приставками). Как отметил ученый, на практике многие «погрешают» в их употреблении и на письме «слитие... сплошь видно: вдомh, надгорою, изокна» [Ломоносов, 1755, с. 59]. Вероятно, слитное написание в подобных случаях объясняется влиянием господствовавшего ранее слитного письма в рукописях (scriptio continua) и трудностью различения предлогов и приставок.
Однако, как писал М. В. Ломоносов, требуется помнить, что слитные предлоги остаются в составе слова во всех его грамматических формах, а раздельные предлоги сохраняются только в определенных падежах; при глаголах всегда используются предлоги слитные; наречиями становятся сочетания предлогов с существительными (и пишутся слитно), если предлог употреблен не с присущей для него падежной формой ( вдругъ ) или перед именем, в других формах не использующемся ( вкось ), а также при изменении значения ( вм h ст h ) [Ломоносов, 1755, с. 59–60]. Предложенные критерии разграничения наречий и предложно-падежных сочетаний находили применение в практике обучения грамматике вплоть до середины ХХ в., несмотря на то, что в процессе становления русской орфографии рекомендации по этому вопросу высказывались практически всеми авторами грамматик и учебников русского языка (см. об этом, например: [Харченко, 2002]).
При решении вопроса о дифференциации наречий и предложно-падежных сочетаний необходимо отличать случаи завершившегося процесса адвербиализации и те случаи, когда этот процесс на современном этапе развития языка еще длится и рядовому носителю языка сложно определить его стадию.
Открытым остается вопрос, можно ли относить слово к классу имен существительных, если в речи оно функционирует только в обстоятельственной функции и только в составе предложно-падежных сочетаний. Материалы толковых словарей современного русского языка не всегда последовательны в отражении этого вопроса. Так, в «Толковом словаре русского языка с включением сведений о происхождении слов» (2007 г.) удерж, умолк, упад, кондачок, панталык, просып представлены как существительные, но лексические значения этих единиц в словаре не приводятся, фиксируется только семантика сочетаний: без удержу – ‘не сдерживаясь, неудержимо’ (с. 1019); без умолку – ‘не умолкая, не затихая’ (с. 1027); до упаду – ‘до полного изнеможения’ (с. 1029); с кондачка – ‘не подгото- вившись, несерьезно, легкомысленно’ (с. 357); с панталыку (сбить(ся) с панталыку) – ‘привести (прийти) в растерянность, лишить (лишиться) соображения’ (с. 611); без просыпу (без просыпа) – 1) без просыпу спать – долго и крепко, 2) без просыпу пить – о беспробудном пьянстве (с. 767).
В «Толковом словаре служебных частей речи русского языка» Т.Ф. Ефремовой (2001 г.), фиксирующем помимо собственно служебных частей речи наречия и предикативы, находим словарные статьи с пометой качественнообстоятельственное наречие, разговорное у единиц без удержу , без умолку , без просыпу и без просыпа , до упаду , с кондачка . Толкование наречия с панталыку в этом словаре отсутствует.
В «Морфемном словаре наречий русского языка» Ю.Н. Гребеневой (2017 г.) анализируемые единицы тоже зафиксированы, причем у некоторых из них орфографический облик отражается и в соответствии с современной кодификацией нормы, и с пометой «устаревшее написание»: без просыпу (с. 29), без удержу (с. 32), без умолку и безумолку (устар.) (с. 32), до упаду (с. 150). Наречия с кондачка и с панталыку не представлены. В этом словаре отмечены случаи изменения написания с дефисного на слитное: вовремя и вовремя (устар.) (с. 78); с дефисного на раздельное: во веки веков и вовеки-веков (устар.) (с. 77–78), на днях и на-днях (устар.) (с. 251), на нет и на-нет (устар.) (с. 260), под руку и под-руку (устар.) (с. 387), по сердцу и по-сердцу (устар.) (с. 425), только что и только-что (устар.) (с. 553); с раздельного на слитное: вкруговую и в круговую (устар.) (с. 69), внаклон и в наклон (устар.) (с. 72), вполсвета и в полсвета (устар.) (с. 90), вполуоборот и в полуоборот (устар.) (с. 90), вприхлюпку и в прихлюпку (устар.) (с. 93), вразноголосицу и в разноголосицу (устар.) (с. 96), вразнос и в разнос (устар.) (с. 96), навскидку и на вскидку (устар.) (с. 248), на-переменку и на переменку (устар.) (с. 262), напрокат и на прокат (устар.) (с. 265), сплеча и с плеча (устар.) (с. 523); со слитного на раздельное: без толку (с. 32) и бестолку (устар.) (с. 41); под мышками и подмышками (устар.) (с. 383–384), под мышки и подмышки (устар.) (с. 384), под мышкой и под- мышкой (устар.) (с. 384), под мышку и подмышку (устар.) (с. 384); со слитного на дефисное: мало-мальски и маломальски (устар.) (с. 226), по-прежнему и попрежнему (устар.) (с. 419).
Нам представляется правомерным единицы без удержу , без умолку , до упаду , с кондачка , с панталыку , без просыпу считать наречиями, поскольку имя существительное (как и любая другая часть речи, имеющая в составе парадигмы определенное количество словоформ) «опознается» по начальной форме. Парадигма существительных удерж , умолк , упад , кондачок , панталык , просып разрушилась, но в некоторых словарях современного русского языка продолжает фиксироваться их начальная форма без кодификации значения. В подобных случаях можно говорить об утрате языком лексической единицы – имени существительного и сформирован-ности в результате адвербиализации новой лексической единицы – наречия, орфографическое оформление которого пока решается в соответствии с традиционным принципом. Итак, отсутствие начальной формы и большей части падежных форм свидетельствует о завершении процесса перехода существительного в наречие.
Отметим другие особенности функционирования лексических единиц, помогающие установить их частеречный статус.
-
1. Предлог не употребляется в предложении самостоятельно, без именной словоформы в косвенном падеже (ср.: Лагерь расположился вблизи дороги и Мы увидели находящуюся вблизи постройку ). В семантическом отношении слово вблизи во втором предложении предполагает контекстное пояснение, вблизи чего / кого находится строение (поэтому по шкале переходности В.В. Бабайцевой, возможно, этот случай не будет последним звеном в цепи), но по формальному показателю это несомненное наречие в современном русском языке.
-
2. Наречие, будучи в предложении обстоятельством, не может иметь при себе зависимое дополнение (ср.: Вдали показался парус и Вдали от нас проплыла акула ). Если признать существование многозначных членов предложения, то в зоне синкретизма могут находиться случаи, когда обстоятельство,
-
3. Одно из средств дифференциации наречий и омонимичных им предложно-падежных сочетаний – фонетические различия, а именно изменение места ударения. Префиксы (из предлогов) и в ряде случаев суффиксы (из флексий) в составе наречий перетягивают ударение на себя: вóвремя (ср.: во врéмя ), зáмужем (ср.: за мýжем ), пóбоку (ср.: по бóку ), нáголову (ср.: на гóлову ), óтроду (ср.: от рóду ), дó смерти (ср.: до смéрти ), зá полночь (ср.: за пóлночь ), нá дом (ср.: на дóм ), вплотнýю (ср.: в плóтную ), втихýю (ср.: в тúхую ) и др. Кроме того, значимым является и характер звука, с которого начинается вторая часть сочетания (при предлоге-приставке на согласный). Если второй компонент начинается с гласного, то рекомендуется дистантное его положение по отношению к первому, а соответственно, и признание в данном случае предложно-падежного сочетания, а не наречия.
-
4. Существуют определенные различия в лексических значениях грамматических омонимов. Разрыв в семантике наречия и существительного ощущается в большей степени в тех случаях, когда на современном этапе носители языка не прослеживают мотивационные связи между ними ( с панталыку, с кондачка ). Однако, сравнивая, например, семантику наречий, появившихся в результате адвербиализации, и «наречных сочетаний», оформляющихся на письме аналитически, исследователи нередко говорят о метафорическом употреблении существительных в таких сочетаниях. В частности, единицы в сердцах , за глаза , в корне , в лицо , в пику рассматриваются как предложно-падежные сочетания, в которых сердце , глаз , корень , лицо , пика являются существительными, функционирующими в переносном значении [Волошина, 1994, с. 82].
-
5. Изменения на уровне семантики приводят к изменениям на грамматическом уровне: наречия выражают значение при-
знаковости действия или другого признака, а не значение предметности. Один из способов различения омонимичных структур – возможность замены синонимом, имеющим то же общекатегориальное значение. Однако было бы неверным признать прием синонимической замены [Галкина-Федорук, 1954, с. 16] универсальным, так как синонимичными могут быть слова, относящиеся к разным частям речи.
-
6. Весьма распространенное мнение о том, что существование хотя бы двух падежных форм в парадигме доказывает наличие имени существительного в языке ( без оглядки – с оглядкой , на карачки – на карачках ), на наш взгляд, не вполне обоснованно: отсутствие в словарях кодифицированной формулировки лексического значения начальной формы существительного свидетельствует об утрате языком ранее функционировавшего имени.
-
7. Оригинальный прием различения наречий и омонимичных структур, основанный на способности словоформы быть членом замкнутого или незамкнутого ряда, был предложен М.В. Пановым. Если оставшаяся после отделения приставки-предлога часть может рассматриваться как имя существительное и данное предложно-падежное сочетание входит в незамкнутый ряд сочетаний такого типа, то, считает лингвист, полной адвербиализации не произошло и нужно говорить об употреблении падежной формы существительного с предлогом [Панов, 1964, с. 115]. Например, сочетание в полоску входит в открытый ряд материя в полоску, в елочку, в квадрат, в колокольчик и т. д., а сочетание в головах – член замкнутого ряда лежит в головах, в ногах , но невозможно: в руках, в спинах и т. д.
-
8. Возможность вставки согласованного определения между предлогом и существительным позволяет, по мнению многих, отграничить их от наречий. Такое утверждение было зафиксировано в первом издании «Правил русской орфографии и пунктуации» [Правила..., 1956, с. 45]. Представляется лингвистически некорректной формулировка «если можно вставить», так как семантическая близость омонимичных наречий и имен существительных может оставаться явной, и при отсутствии определения единица будет квали-
фицироваться как наречие, а при его наличии – как имя существительное: ударил с маху – ударил со всего маху , коня остановит на скаку – остановит на полном скаку . Однако есть и более категоричная точка зрения: вставкой-определением следует считать не любое слово. В частности, в примерах внизу – в самом низу , вверху – в самом верху , на ходу – на полном ходу , на миг – на один миг , на днях – на этих днях вставками могут быть только определенные слова, что говорит о мнимой проницаемости между компонентами наречий [Шанский, 1964, с. 48]. В новой редакции кодифицированного свода правил данный критерий для различения грамматических омонимов не предлагается [Правила..., 2006, с. 141 – 148].
Орфографическая норма и грамматическая омонимия выраженное существительным, имеет при себе определение, например, в предложении Просыпаюсь ранним утром словоформа ранним выполняет функцию определения, согласуясь с обстоятельством утром (сущ.), но дополнения в подобных ситуациях быть не может.
Учитывая все рассмотренные критерии и приемы дифференциации омонимичных структур, предлагаем использовать следующую последовательность проверки грамматических признаков слов:
-
1. Употребляется в современном русском языке слово с другим препозитивным компонентом, без него или нет? (Если нет, то это наречие).
-
2. Имеет часть без препозитивного компонента начальную форму или нет? (Если нет, то это наречие).
-
3. Входит в сочетание с именем существительным / личным местоимением в косвенном падеже или нет? (Если да, то это предлог).
-
4. Имеет при себе согласованное определение (не из числа строго ограниченных – фразеологизированных) или нет? (Если да, то это предложно-падежное сочетание).
-
5. Входит в замкнутый ряд сочетаний такого же типа или нет? (Если да, то это наречие, если нет, то – предложно-падежное сочетание).
Грамматические омонимы в сознании носителей языка
Для выявления того, осознают ли носители русского языка связь между орфографическим оформлением грамматических омонимов и их частеречной принадлежностью, был проведен пилотный лингвистический эксперимент. В нем добровольно участвовали
108 человек. Все участники – студенты Волгоградского государственного университета разных курсов и направлений подготовки, в том числе и направления «Филология». Эксперимент проводился в учебной аудитории, время выполнения заданий ограничивалось 30 минутами.
Эксперимент проводился в два этапа.
Материал для первого этапа представлял собой 18 предложений, целенаправленно составленных для проведения эксперимента. Графически маркированными шрифтовым выделением в предложениях были слова (сочетания), являющиеся компонентами омонимических пар (рядов): вдали (наречие) – вдали от (предлог) – в дали (существительное с предлогом); вглубь (наречие) – вглубь (предлог) – в глубь (существительное с предлогом); вбок (наречие) – в бок (существительное с предлогом); до отказа (наречие) – до отказа (существительное с предлогом); навстречу (наречие) – навстречу (предлог) – на встречу (существительное с предлогом); навыпуск (наречие) – на выпуск (существительное с предлогом); в шутку (наречие) – в шутку (существительное с предлогом); в целях (предлог) – в целях (существительное с предлогом) и др. Участники эксперимента должны были указать, к какому грамматическому классу слов относятся выделенные лексические единицы, и самостоятельно определить правильный вариант их написания.
На втором этапе эксперимента участникам было предложено написать словарный диктант (26 слов), реципиенты были предупреждены о том, что все слова в нем являются наречиями.
Были получены следующие данные.
С заданием первого этапа полностью не справился ни один из участников; наибольшее количество ошибочных ответов было в тех случаях, когда функциональная омонимия прослеживалась у слов трех частей речи (92 % ошибок) и когда орфографическое оформление омонимов идентично, то есть они пишутся слитно или раздельно независимо от частеречной принадлежности (88 %).
Проверка выполнения задания второго этапа показала следующее. Студенты орфографически верно (в части слитного / раздельного написания) отразили на письме толь- ко наречия сверху и позавчера. Единичные случаи ошибок (до 2) в написании слова воистину (во истину и во-истину). 10 % респондентов ошиблись в орфографическом облике наречий подчистую и в шутку; 13,4 % – в словах с горя и наотмашь; 15 % – в наречии в обнимку; 16,3 % написали слитно до упаду и до отказа; 25 % использовали дефис в отражении на письме наречия бок о бок (кроме того, встречались случаи написаний бок обок, бок об бок, бок в обок). Орфография остальных наречий вызвала значительные затруднения: 30 % участников эксперимента ошиблись в слитном / раздельном / дефисном написании слов точь-в-точь (кроме раздельного варианта точь в точь, встретились точь-в точь и точь-вточь) и на скаку; 33,4 % – в наречиях наотлет, поначалу (по началу и по-началу), след в след (разнообразные варианты: след-в-след, след вслед, вслед-вслед, вслед вслед, след-вслед, в след в след); 41,7 % – в словах дотемна и наудалую; 43,4 % – в наречиях навыпуск и на плаву; 48,3 % не знают правильного облика перво-наперво (кроме раздельного написания перво наперво и перво на перво, встретились перво-на-перво, перво-на перво, перва-на-перва, перво наперва, перва на перво, пер-ва наперво, перва наперва, первонаперво); 50 % – пишут слитно с перепугу. Количество студентов, допустивших ошибку в написании слов наутро и поодиночке, превысило число знающих нормативный вариант (53,4 % и 63,4 % соответственно полагают верным раздельное оформление приставок в этих словах). Наибольшую сложность для обучающихся представляет выбор правильного отражения на письме наречий на ощупь (70 % ошибившихся) и с панталыку (71,7 %). Незнание фразеологизма сбить с панталыку проявилось не только в слитном написании наречия (в этом случае оно как раз абсолютно оправдано: на современном этапе имя существительное панталык не употребляется, другие его формы не сохранились даже в устойчивых сочетаниях, носители языка не осознают его как компонент грамматической омонимии), но и в ошибках другого типа: спонто-лыку, вспанталыку, спонталыгу, спонтолы-гу, спанталыгу, спантолыгу. Мнение лингвистов о том, что в рассматриваемом фразеоло- гизме сильноуправляемый глагол сбить «провоцирует понимание этого сочетания как предлог + уникальное управляемое существительное» [Кузьмина, 2010, с. 64], для рядовых пишущих не представляется актуальным.
В результате обобщения полученных данных можно констатировать, что носители языка, даже профессионально ориентированные студенты-филологи, испытывают затруднения при установлении частеречной принадлежности слов.
Анализ итогов эксперимента наглядно подтверждает мнение Л.П. Крысина о наличии несовпадений возможностей системы языка, нормативных установок и речевой практики [Крысин, 2010, с. 12]. Подобная ситуация сложилась и в части слитных / дефисных написаний сложных существительных и сложных прилагательных (см. об этом: [Кузьмина, 2010; Сидорова, 2018]), фрагментарно касающихся вопроса грамматической омонимии.
Выводы
Грамматические омонимы на уровне частеречной принадлежности являются разными словами, несмотря на то, что может отчетливо прослеживаться близость их лексических значений и фонетического оформления. Синтаксические функции при синхроническом рассмотрении не могут выступать, на наш взгляд, в качестве основного критерия определения частеречной принадлежности слова, ибо слова различных грамматических классов могут выполнять идентичные функции, но установление валентностных особенностей тех или иных единиц в конкретных случаях употребления может помочь разграничению омонимичных слов и сочетаний. Процесс формирования грамматических омонимов непрерывен, он наблюдается и в современном русском языке, у некоторых лексических единиц однозначно определить стадию перехода из одной части речи в другую, степень сформированности всех признаков «нового» грамматического класса представляется весьма сложным. Именно поэтому возникают затруднения при решении вопроса о слитном / раздельном / дефисном написании слов, относящихся к омонимичным структурам. Критерии дифференциации наречий, предлож- но-падежных сочетаний и предлогов должны быть максимально формальными, чтобы пишущие могли использовать их до применения орфографических правил. Требуется корректировка лингвистического содержания правил в части слитного / дистантного отражения слов на письме, поскольку существующие нормативные установки, как показали результаты проведенного эксперимента, не используются носителями языка даже в случаях, когда частеречная принадлежность слов однозначно определена.
Список литературы Орфографическая норма и грамматическая омонимия
- Авдина А. И., 2013. Грамматическая омонимия как специфическое явление языка // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. № 9. С. 204-211.
- Ахманова О. С., 1957. Очерки по общей и русской лексикологии. М.: Учпедгиз. 295 с.
- Бабайцева В. В., 2000. Явления переходности в грамматике русского языка. М.: Дрофа. 640 с.
- Бешенкова Е. В., 2016. Вариативность, узуальная норма и политика нормализаторов // Сибирский филологический журнал. № 3. С. 35-42. DOI: 10.17223/18137083/56/3
- Виноградов В. В., 2001. Русский язык: (Грамматическое учение о слове). 4-е изд. М.: Рус. яз. 720 с.
- Волошина Т. А., 1994. Правописание наречий в русском языке: история и современное состояние. Ростов н/Д: Изд-во Рост. гос. ун-та. 112 с.
- Галкина-Федорук Е. М., 1954. К вопросу об омонимах в русском языке // Русский язык в школе. № 3. С. 14-19.
- Крысин Л. П., 2010. Проблема соотношения языковой системы, нормы и узуса // Современный русский язык: Система - норма - узус / отв. ред. Л. П. Крысин. М.: Яз. слав. культур. С. 9-28.
- Кузьмина С. М., 2010. Система, норма и узус в фонетике и письме // Современный русский язык: Система - норма - узус / отв. ред. Л. П. Крысин. М.: Яз. слав. культур. С. 29-67.
- Кураков В. И., 1998. В плену заблуждений, или О некоторых противоречиях в теории частей речи // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Филология. Вып. 2. С. 92-94.
- Ломоносов М. В., 1755. Российская грамматика. СПб.: Императ. Акад. наук. 213 с.
- Малаховский Л. В., 1990. Теория лексической и грамматической омонимии. Л.: Наука. 239 с.
- Панов М. В., 1964. О слитных и раздельных написаниях // Вопросы русской орфографии. М.: Наука. С. 100-119.
- Правила русской орфографии и пунктуации, 1956. М.: Учпедгиз. 176 с.
- Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник, 2006. М.: Эксмо. 480 с.
- Сидорова Е. Г., 2018. Проблемы и противоречия кодификации сложных прилагательных в русском языке // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. Т. 17, № 4. С. 68-80. 10.15688/jvolsu2. 2018.4.6.
- DOI: 10.15688/jvolsu2.2018.4.6
- Харченко С. Ю., 2002. Процесс становления орфографии наречий // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. Вып. 2. С. 108-114.
- Шанский Н. М., 1964. Правописание наречий // Вопросы русской орфографии. М.: Наука. С. 43-50.
- Щерба Л. В., 1957. О частях речи в русском языке // Избранные работы по русскому языку. М.: Учпедгиз. С. 63-84.
- Wildgen W., 1990. Basic Principles of Self-Organization in Language // Sinergetics of Cognition / ed. by H. M. Stadler. Berlin: Springer Verl. S. 415-426.
- Гребенева Ю. Н. Морфемный словарь наречий русского языка. М.: Мир и Образование, 2017. 752 с.
- Ефремова Т. Ф. Толковый словарь служебных частей речи русского языка. М.: Рус. яз., 2001. 863 с.
- Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов / отв. ред. Н. Ю. Шведова. М.: Азбуковник, 2007. 1175 с.