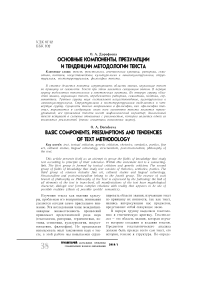Основные компоненты, презумпции и тенденции методологии текста
Автор: Дорофеева Оксана Алексеевна
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 1 (9), 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье делается попытка сгруппировать области знания, изучающие текст по принципу их связности. Текст при этом является связующим звеном. В первую группу выделяется текстология и генетическая критика. Во вторую группу областей знания, изучающих текст, определяется риторика, семиотика, поэтика, герменевтика. Третью группу наук составляют искусствоведение, культурология и лингвокультурология. Структурализм и постструктурализм выделяются в четвертую группу. Сущность такого направления в философии как «философия текста» выражается в следующем: связь всех элементов текста является трансуровневой; все проявления текста носят мифологический характер; диалогичный текст вступает в сложные отношения с реальностью, которая является одной из возможных реальностей (тезис семантики возможных миров)
Текст, текстология, генетическая критика, риторика, семиотика, поэтика, искусствоведение, культурология и лингвокультурология, структурализм, постструктурализм, философия текста
Короткий адрес: https://sciup.org/14720540
IDR: 14720540 | УДК: 81'42
Текст научной статьи Основные компоненты, презумпции и тенденции методологии текста
This article presents itself as an attempt to group the fields of knowledge that study text according to principle of their coherence. Within this statement text is a connectinglink. The first group is formed by textual criticism and genetic criticism. The second group of fields of knowledge that study text consists of rhetorics, semiotics, poetics. The third group of sciences includes fine art, culbural stuties and lingual culturology. Structuralism and poststructuralism belong to the fourth group. The essence of such branch of philosophy as Philosophy of the Text is expressed by the following: the link of all elements of the text is trans-level, all manifestations of the text have myphological character, dialogic text forms complex relations with reality that appears to be one of possible realities (thisis of possible worlds’ semantics).
Изучению текста как явления культуры, проблемам его восприятия, понимания уделяется сегодня самое пристальное внимание. Эти исследования чаще междисциплинарны: множественность проявлений привлекает представителей ряда наук (текстологии, риторики, герменевтики, поэтики, семиотики, культурологии, искусствоведения, философии). Не предполагая использовать опыт таксономии наук о тексте, в этой работе мы попытаемся сгруп- пировать области знания, изучающие текст по принципу их связности, так как текст, являясь интересующим нас предметом, представляет собой связующее звено.
В первую группу выделяем текстологию и генетическую критику. Текстология —это область знания, которая изучает историю создания и издания текстов. Предметом текстологического анализа должен быть прежде всего сам текст, его история, генезис и структура. По опреде-
лению Д. С. Лихачева, текстология остается «системой приемов к добыванию первоначального текста для его издания»... ставит себе целью изучить историю текста памятника на всех этапах его существования в руках у автора и в руках его переписчиков, редакторов, компиляторов, т. е. на протяжении всего того времени, пока изменялся текст памятника. Только путем полного изучения истории текста памятника как единого целого, а не путем эпизодической критики отдельных мест может быть достигнуто и восстановление первоначального авторского текста памятника» [1, с. 27].
«Текстология выявляет из нескольких вариантов канонический текст, комментирует его содержание и производит атрибуцию, то есть определяет принадлежность его к определенной эпохе и определенному автору», —указывает В. П. Руднев Далее автор приводит в пример тот факт, что «до сих пор неизвестно ни когда написано “Слово о полку Игореве”, ни кто его автор, и, главное, является ли оно подлинным произведением древнерусской литературы или гениальной подделкой конца XVII в.» [2, с. 458].
Эдиционная практика, как правило, является основной целью и смыслом критического изучения. Генетическая критика как новое направление теории текста, возникшее в начале 70-х гг. XX в. во Франции, принесла с собой новый взгляд на литературу. Данная область знания «...занимается ...отношением между текстом и его генезисом, механизмами создания текста, деятельностью пишущего», —указывает Э. Луи [3, с. 119]. Ее предмет —литературные рукописи в той мере, в какой они содержат следы развития, становления текста. Ее метод —раскрытие процесса письма, а также построение целой серии гипотез о письменной деятельности.
Возникновение генетической критики связано с практической задачей —систематизацией рукописного наследия писателя и подготовкой серии критических изданий. С течением времени генетическая критика «стала осмыслять себя в качестве дисциплины теоретической и к тому же принципиально новаторской, хотя и соотносящейся с современными ей теориями», — пишет Е. Е. Дмитриева [4, с. 3—22].
Последовательные этапы развития текста, установленные текстологически, становятся основой генетического исследования: подборки последовательных вариантов, «выписок» цитат, сокращений, дополнений и вообще любой правки «исходного» текста. Собранный материал всегда будет неполным, поскольку значительная часть его утрачена по разным причинам. На основе генетического исследования воссоздается такой текст, который характеризует последовательность генезиса.
В свете развития современных компьютерных технологий понятия «черновик», «авторская рукопись» приобретают статус нерелевантных для современного литератора, уходят в прошлое. Становится невозможным зафиксировать изменения в работе. Поскольку в методологию генетической критики включена работа с авторским черновиком, представляется сомнительным дальнейшее развитие такого направления теории текста, как «генетическая критика» в плане современной литературы. Поэтому работа в сфере генетической критики в настоящее время может быть направлена на архивные материалы.
Во вторую группу областей знания, изучающих текст, мы определяем риторику, семиотику, поэтику, герменевтику.
«Риторика» прежде всего —термин античной и средневековой теории литературы. Значение термина раскрывается в трех оппозициях: а) в противопоставлении «поэтика —риторика» содержание термина истолковывается как «искусство прозаической речи» в отличие от «искусства поэтической речи»; б) в противопоставлении «обычная», «неукрашенная», «естественная» речь — речь «искусственная», «украшенная», «художественная» риторика раскрывалась как искусство украшенной речи, в первую очередь ораторской; в) в противопоставлении «риторика —герменевтика», т. е. «наука порождения текста — наука понимания текста» риторика толковалась как свод правил, механизм порождения текста. Отсюда ее «технологический» и классификационный характер и практическая направленность. Последнее обстоятельство приводило в период расцвета риторики к
ФИЛОСОФИЯ
усложнению системы дефиниций. При этом риторика была обращена к говорящему, а не к слушающему, к ученой аудитории создателей текстов, а не к той массе, которая должна была эти тексты слушать. Риторические тексты отличаются от общеязыковых существенной особенностью: образование языковых текстов производится носителем языка стихийно, эксплицитные правила актуальны здесь лишь для исследователя, строящего логические модели бессознательных процессов. В риторике процесс порождения текстов имеет научный, сознательный характер.
В современной поэтике и семиотике термин «риторика» употребляется в трех основных значениях: а) лингвистическом — как правила построения речи на сверхфразовом уровне, структура повествования на уровнях выше фразы; б) как дисциплина, изучающая «поэтическую семантику» — типы переносных значений, так называемая «риторика фигур»; в) как «поэтика текста», раздел поэтики, изучающий внутритекстовые отношения и социальное функционирование текстов как целостных семиотических образований.
С того момента, как мы начинаем иметь дело с текстом, т. е. с отдельным, замкнутым в себе и имеющим целостное, нерасчленимое значение и целостную, нерасчленимую функцию семиотическим образованием, отделенным от контекста, отношение отдельных его элементов к проблеме риторики резко меняется. Если весь текст в целом закодирован в системе культуры как риторический, любой его элемент также делается риторическим, независимо от того, представляется ли он нам в изолированном виде имеющим прямое или переносное значение. Так, например, поскольку всякий художественный текст априори выступает в нашем сознании как риторически организованный, любое заглавие художественного произведения функционирует в нашем сознании как троп, т. е. как риторически отмеченное. Многообразие структурных связей внутри текста резко понижает самостоятельность отдельных входящих в него единиц и повышает коэффициент связанности текста. Текст стремится превратиться в от- дельное «большое слово» с общим единым значением. Это вторичное «слово» в тех случаях, когда мы имеем дело с художественным текстом, всегда представляет собой троп: по отношению к обычной нехудожественной речи художественный текст как бы переключается в семиотическое пространство с большим числом измерений. Для того чтобы представить себе, о чем идет речь, вообразим трансформацию типа «сценарий (или художественное словесное повествование) —кинофильм» или «либретто — опера». При трансформациях этого типа текст с определенным количеством координат смыслового пространства превращается в такой, для которого мерность семиотического пространства резко возрастает. Аналогичное явление наблюдается и при превращении словесного (нехудожественного) текста в художественный.
Современная семиотика (Р. Барт, Ю. М. Лотман) рассматривает текст как многосмысловое образование, обращается к знаковой природе текста, рассматривает его как динамическую систему и изучает возможности структурных связей внутри этой системы. По Барту, текст «должен сквозь что-то двигаться» и «стоит на грани речевой правильности (разумности, удобочитаемости и т. д.)» [5, с. 415—416]. Согласно Лотману текст первичен по отношению к языку. «Исходным для культурологического понятия текста является именно тот момент, когда сам факт лингвистической выраженности перестает восприниматься как достаточный для того, чтобы высказывание превратилось в текст. Вследствие этого вся масса циркулирующих в коллективе языковых сообщений воспринимается как нетексты, на фоне которых выделяется группа текстов, обнаруживающих признаки некоторой дополнительной, значимой в данной системе культуры, выраженности», —пишет А. М. Пятигорский [6, с. 41]. А Лотман показал, что, вбирая в свою структуру различные языки культуры, текст приобретает способность генерировать новые смыслы.
Важной отличительной чертой произведения, полагает Барт, является его принципиальная замкнутость и сводимость к опреде- ленному означаемому. Текст же «всецело символичен» и обладает многосмысловой структурой. «В тексте означаемое бесконечно откладывается на будущее. Текст работает в сфере означающего» [5, с. 416—417]. Порождение означающего может происходить вечно посредством множественного смещения, вза-имоналожения, варьирования элементов. Иначе говоря, логика, регулирующая текст, заключена в метонимии, в выработке ассоциаций, взаимосцеплений и переносов.
Структуру большой сложности представляет собой поэтическая речь. Она значительно усложнена по отношению к естественному языку. И если бы объем информации, содержащейся в поэтической (стихотворной или прозаической — в данном случае не имеет значения) и обычной речи был одинаковым, художественная речь потеряла бы право на существование и, бесспорно, отмерла бы. Но дело обстоит иначе: усложненная художественная структура, создаваемая из материала языка, позволяет передавать такой объем информации, который совершенно недоступен для передачи средствами элементарной собственно языковой структуры. Из этого вытекает, что данная информация (содержание) не может ни существовать, ни быть передана вне данной структуры. Пересказывая стихотворение обычной речью, мы «разрушаем структуру и, следовательно, доносим до воспринимающего совсем не тот объем информации, который содержался в нем», — пишет Ю. М. Лотман [7, с. 23].
Создание художественного произведения знаменует качественно новый этап в усложнении структуры текста. Многослойный и семиотически неоднородный текст, способный вступать в сложные отношения как с окружающим культурным контекстом, так и с читательской аудиторией, перестает быть элементарным сообщением, направленным от адресанта к адресату. Обнаруживая способность конденсировать информацию, он приобретает «память». «Текст обнаруживает свойства интеллектуального устройства: он не только передает вложенную в него извне информацию, но и трансформирует сообщения и вырабатывает новые», —отмечает Ю. М. Лотман [8, с. 160].
В этих условиях социально-коммуникативная функция текста значительно усложняется. Ее можно свести к следующим процессам.
-
1. Общение между адресантом и адресатом. Текст выполняет функцию сообщения, направленного от носителя информации к аудитории.
-
2. Общение между аудиторией и культурной традицией. Текст выполняет функцию коллективной культурной памяти. В качестве таковой он, с одной стороны, обнаруживает способность к непрерывному пополнению, с другой — к актуализации одних аспектов вложенной в него информации и временному или полному забыванию других.
-
3. Общение читателя с собой. Текст (это особенно характерно для традиционных, древних, отличающихся высокой степенью каноничности текстов) актуализирует определенные стороны личности адресата. В ходе такого общения получателя информации с самим собой текст выступает в роли медиатора, помогающего перестройке личности читателя, изменению ее структурной самоориентации и степени ее связи с мета-культурными конструкциями.
-
4. Общение читателя с текстом. Проявляя интеллектуальные свойства, высокоорганизованный текст перестает быть лишь посредником в акте коммуникации. Он становится равноправным собеседником, обладающим высокой степенью автономности. И для автора (адресанта), и для читателя (адресата) он может выступать как самостоятельное интеллектуальное образование, играющее активную и независимую роль в диалоге. В этом отношении древняя метафора «беседовать с книгой» оказывается исполненной глубокого смысла.
-
5. Общение между текстом и культурным контекстом. В данном случае текст выступает в коммуникативном акте не как сообщение, а в качестве его полноправного участника, субъекта —источника или получателя информации.
Текст, как считает В. П. Руднев, изучается и поэтикой. Автор полагает, что поэтика исследует искусность построения текста, его устройство, структуру и компози- цию. Руднев разграничивает художественный и нехудожественный текст. Нехудожественные тексты передают или, во всяком случае, претендуют на то, чтобы передавать информацию. Это может быть на самом деле ложная информация, специально вводящая в заблуждение, дезинформация. Но художественный текст не ставит целью передать истинную или ложную информацию. Он, как правило, оперирует вымышленными объектами, так как задача искусства — это в первую очередь развлекать читателя, зрителя или слушателя. В качестве исключения приводится «Архипелаг ГУЛАГ» А. И. Солженицына, который одновременно является высокохудожественным текстом и передает огромное количество информации.
Представляется целесообразным упомянуть о структурной и генеративной поэтике. Основным тезисом структурной поэтики был постулат о системности художественного текста, системности, суть которой была в том, что художественный текст рассматривался как целое, которое больше, чем сумма составляющих его частей. Текст обладал структурой, которая мыслилась в духе того времени как похожая на структуру кристалла (говорили, что в начале пути структуралисты изучали основы кристаллографии, чтобы лучше понять то, чем они занимаются).
Важнейшим свойством системности, или структурности, считалась иерархичность уровней структуры. Это положение тоже было взято из структурной лингвистики.
Что же касается генеративной поэтики, то в словарной статье с одноименным названием В. П. Руднев указывает на то, что «Генеративная поэтика стремилась не к описанию текста, а к моделированию процесса порождения текста. Художественный текст можно представить как сумму некой абстрактной «темы» и приемов выразительности, при помощи которых тема трансформируется в реальный текст» [2, с. 93].
В герменевтике (искусстве правильно понимать текст в его герменевтическом и психологическом истолковании —принцип, сформулированный Ф. Шлейермахером) текст рассматривается как полисемичное образование, область продуктивного прочтения, открытого новым смыслам и порождающего их —его можно представить как воронку, втягивающую в себя все новые культурные смыслы. В этом случае он определяется предельно широко — как письменность, литература, «абстрактная идеальность языка» (по определению Г. Г. Гадамера), всей целостностью присутствующая в смысловой глубине конкретных произведений [8, с. 411].
Третью группу наук, изучающих текст, составляют, по нашему мнению, искусствоведение, культурология и лингвокульту-рология.
Искусствоведение. «Необходимость искусства родственна необходимости знания, а само искусство —одна из форм познания жизни, борьбы человечества за необходимую ему истину», —пишет Ю. М. Лотман [7, с. 15].
Особая конструктивная природа искусства делает его особым и исключительно совершенным средством хранения информации. «Произведения искусства не только отличаются необычайной емкостью и экономностью хранения весьма сложной информации, но и могут увеличивать количество заключенной в них информации. Это уникальное свойство произведений искусства придает им черты сходства с биологическими системами и ставит их на совершенно особое место в ряду всего созданного человеком», —пишет Ю. М. Лотман [7, с. 399]. Взаимодействуя с внешней средой, искусство проявляет родство с жизнью в природе, а именно приобретает способность противостоять разрушительным силам энтропии в культуре. Одной из основных функций культуры является также противостояние наступлению энтропии.
Искусство обладает способностью преображать шум в информацию. Рассмотрим подробнее такое явление, как «шум». По идее Лотмана, шум называют вторжением беспорядка, энтропии, дезорганизации в сферу структуры и информации. Шум гасит информацию. Все виды разрушения: заглушение голоса акустическими помехами, гибель книг под влиянием механической порчи, деформация структуры авторского текста в результате цензорского вмешательства —все это шум в канале связи. По известному закону всякий канал связи (от телефонного провода до многовекового расстояния между Шекспиром и нами) обладает шумом, съедающим информацию. Если величина шума равна величине информации, сообщение будет нулевым.
В работах Ю. М Лотмана начиная со второй половины 1960-х гг. получает развитие идея о принципиальной многосостав-ности всякой коммуникации (будь то поэтический текст либо конвенции бытового поведения). Ю. М. Лотман определяет искусство как одно из средств коммуникации. Оно может быть описано как некоторый вторичный язык (вторичная моделирующая система) —коммуникационная структура, надстраивающаяся над естественноязыковым уровнем (миф, религия). В этом смысле «произведение искусства предстает как текст на этом языке» [2, с. 22]. Язык — это некоторая данность, которая существует до создания конкретного текста и одинакова для обоих полюсов коммуникации. Сообщение —это та информация, которая возникает в данном тексте. Если мы возьмем большую группу функционально однородных текстов и рассмотрим их как варианты некоего одного инвариантного текста, сняв при этом все «внесистемное» с данной точки зрения, то получим структурное описание языка данной группы текстов. Мы можем рассмотреть все возможные балеты как один текст (так, как мы обычно рассматриваем все исполнения данного балета как варианты одного текста) и, описав его, получим язык балета, и т. д.
Человечество нуждается в особом механизме — генераторе все новых и новых «языков», которые могли бы обслуживать его потребность в знании. При этом оказывается, что дело не только в том, что создание иерархии языков является более компактным способом хранения информации, чем увеличение до бесконечности сообщений на одном.
Определенные виды информации могут храниться и передаваться только с помощью специально организованных языков. Так, химическая или алгебраическая инфор- мация требуют своих языков, которые были бы специально приспособлены для данного типа моделирования и коммуникации.
Искусство является великолепно организованным генератором языков особого типа, которые оказывают человечеству незаменимую услугу, обслуживая одну из самых сложных и не до конца еще ясных по механизму сторон человеческого знания [7, с. 17].
В общей системе культуры тексты выполняют по крайней мере две основные функции: адекватную передачу значений и порождение новых смыслов. Первая функция выполняется наилучшим образом при наиболее полном совпадении кодов говорящего и слушающего и, следовательно, при максимальной однозначности текста. Идеальным предельным механизмом для такой операции будет искусственный язык и текст на искусственном языке. Тяготение к стандартизации, порождающее искусственные языки, и стремление к самоописанию, создающее метаязыковые конструкции, не являются внешними по отношению к языковому и культурному механизму. Ни одна культура не может функционировать без метатекстов и текстов на искусственных языках, поскольку именно эта сторона текста наиболее легко моделируется с помощью имеющихся в нашем распоряжении средств, этот аспект текста оказался наиболее заметным. Он сделался объектом изучения, порой отождествляясь с текстом как таковым и заслоняя другие аспекты.
По мнению Л. Витгенштейна, «...неверно говорить, что в философии мы рассматриваем идеальный язык в противоположность обыденному языку. Потому что, если бы это было так, мы бы полагали, что можем усовершенствовать обыденный язык. Но в обыденном языке все в порядке. Когда мы создаем “идеальные языки”, то это делается не для того, чтобы заменить наш собственный язык этим искусственным языком, но лишь для того, чтобы устранить некоторые затруднения, возникающие в сознании тех, кто полагает, что он достиг точного употребления обычного слова. Вот почему наш метод не просто состоит в том, чтобы исчислять реальные употребления, но, скорее, в том, чтобы умышленно вводить новые, что- бы показать абсурдность некоторых из них» [9, с. 50—51]. По всей вероятности, Л. Витгенштейн имеет в виду именно те две функции текста в системе культуры, на которые указывает Ю. М. Лотман.
Механизм идентификации, снятия различий и возведения текста к стандарту играет не только роль начала, гарантирующего адекватность восприятия сообщения в системе коммуникации: не менее важной является функция обеспечения общей памяти коллектива, превращения его из беспорядочной толпы в “Une personne morale”, по выражению Руссо. Эта функция особенно значительна в бесписьменных культурах и в культурах с доминирующим мифологическим сознанием, однако как тенденция она с той или иной степенью выявленное™ проявляется в любой культуре.
Вторая функция текста — порождение новых смыслов. В этом аспекте текст перестает быть пассивным звеном передачи некоторой константной информации между входом (отправитель) и выходом (получатель). Он является не носителем извне вложенного в него содержания, а генератором.
«Сущность процесса генерации — не только в развертывании, но и в значительной мере во взаимодействии структур. Их взаимодействие в замкнутом мире текста становится активным фактором культуры как работающей семиотической системы», — пишет Ю. М. Лотман [7, с. 427].
Убедительную, на наш взгляд, точку зрения по вопросу рассмотрения исторического процесса как процесса коммуникации излагает соавтор Ю. М. Лотмана — Б. А. Успенский. Таким же образом, как и определение Ю. М. Лотманом «искусства как коммуникационной системы», модель исторического процесса семиотична постольку, поскольку строится на аналогии с речевой деятельностью, т. е. коммуникацией на естественном языке. Исходным является здесь понятие языка (понимаемого вообще как механизм порождения текстов), который определяет отбор значимых фактов; таким образом, понятие знака предстает в данном случае как производное —семиотический статус того или иного явления определяется прежде всего его местом в систе- ме (языке), его отношением к другим единицам того же языка.
Постоянно поступающая новая информация в историческом процессе как процессе коммуникации обусловливает ту или иную ответную реакцию со стороны общественного адресата (социума). В данном случае принципиально неважно, кто является адресантом, отправителем сообщения. Им может быть то или иное лицо, принадлежащее данному социуму (исторический деятель), — тогда исторический процесс предстает как коммуникация между социумом и индивидом; в других случаях речь может идти о реакции на события, обусловленные внешними силами. Таким образом, исторический процесс может представать как коммуникация между социумом и индивидом, социумом и Богом, социумом и судьбой и т. п.; во всех этих случаях важно, как осмысляются соответствующие события, какое значение им приписывается в системе общественного сознания.
В качестве кода выступает при этом некоторый «язык» (этот термин понимается, разумеется, не в узком лингвистическом, а в широком семиотическом смысле), определяющий восприятие тех или иных фактов — как реальных, так и потенциально возможных — в соответствующем историко-культурном контексте. Таким образом, событиям приписывается значение: текст событий читается социумом. Представляется, что в элементарной фазе исторический процесс предстает как процесс порождения новых «фаз» на некотором «языке» и прочтения их общественным адресатом (социумом), которое и определяет его ответную реакцию.
Соответствующий «язык», с одной стороны, объединяет данный социум, позволяя рассматривать социум как коллективную личность и обусловливая более или менее одинаковую реакцию членов социума на происходящие события. С другой стороны, он некоторым образом организует информацию, обусловливая отбор значимых фактов и установление той или иной связи между ними: то, что не описывается на этом «языке», как бы вообще не воспринимается общественным адресатом, выпадает из его поля зрения.
Одни и те же исторические факты, составляющие реальный событийный текст, могут по-разному интерпретироваться на разных «языках» —на языке соответствующего социума и на каком-либо другом языке, относящемся к иному пространству и времени (это может быть обусловлено, например, различным членением событий, т. е. неодинаковой сегментацией текста, а также различием в установлении причинно-следственных отношений между вычленяемыми сегментами). В частности, «то, что значимо с точки зрения данной эпохи и данного культурного ареала, может вообще не иметь значения в системе представлений иного культурно-исторического ареала, —и наоборот. При этом необходимо иметь в виду, что именно система представлений того социума, который выступает в качестве общественного адресата, определяет непосредственный механизм развертывания событий, т. е. исторического процесса как такового», —пишет Б. А. Успенский [10, с. 11].
Развитие теоретической мысли идет по пути включения в анализ текста все более множественной, неструктурированной информации —до тех пор, пока этот процесс не достигает того предела, за которым понятие текста либо утрачивает всякую определенность, либо замещается наложениями и интерференциями, пронизывающими всю историю культуры.
«Лингвокультурология — комплексная научная дисциплина синтезирующего типа, изучающая взаимосвязь и взаимодействие культуры и языка в его функционировании и отражающая этот процесс как целостную структуру единиц в единстве их языкового и внеязыкового (культурного) содержания при помощи системных методов и с ориентацией на современные приоритеты и культурные установления (система норм и общечеловеческих ценностей)», — определяет В. ЕВ. ЕВоробьев [11, сс. 36—37]. СОбъединени лингвистики и культурологии происходит через текст, который, с одной стороны, является высшим уровнем языка, с другой — представляет собой одну из форм культуры. В терминах московско-тартуской семиотической школы культура определяется как Текст, т. е. текст высшего порядка. Это зна- чит, что «культуру можно считать наивысшим уровнем языка, но такая позиция возможна только в лингвокультурологии, которая рассматривает язык как систему воплощения культурных ценностей», —указывает Л. Н. Мурзин [12, с. 10]. Ее объектом является текст как важнейшая единица культуры. При этом текст и объединяет, и в то же время разделяет лингвистику (осуществляющую движение от культуры к языку) и лингвокультурологию (имеющую направление от языка к культуре). Слово же интересует лингвокультуролога, как свернутый текст. Разные подходы к объекту лингво-культурологии можно примирить, полагая, что языковая (повседневная, «наивная») картина мира выводится из текста (дискурса, коммуникативного поведения), а текст выступает как цель и средство исследования культуры, как способ проникнуть в ее сущность.
Важен вопрос вхождения текста в культуру. При создании он является принадлежностью индивида. Чтобы текст вошел в культуру, его должен присвоить социум. Основным «способом такого коллективного присвоения служит многократная интерпретация текста. Как общество присваивает себе продукт творчества индивида, как индивид усваивает культуру —коллективное сознание», —пишет Л. Н. Мурзин [12, с. 11]. Текст и культура имеют ряд общих признаков и черт.
-
1. В отличие от предложения и слова, текст принципиально ситуативен. В конкретных формах культура также ситуативна, она ориентирована на внеязыковую действительность.
-
2. Культура и текст одновременно и дискретны, и континуальны, целостны.
-
3. Текст бисемиотичен, культура также принципиально полисемиотична, она опирается на множество языков.
-
4. И текст, и культура нуждаются в интерпретации. Путем интерпретации текста происходит процесс его осознания. Культура в сознании ее носителей непрерывно видоизменяется, она живет постольку, поскольку ее компоненты —тексты —постоянно прочитываются заново.
-
5. В тексте и культуре присутствуют элементы объективного и субъективного.
ФИЛОСОФИЯ
-
6. вВ/лкультуреЭС постоянно3°противоб ствуют консервативное и новаторское начала. Для ее нормального функционирования важны и традиции и новаторство.
В концепции К. Леви-Строса противопоставлены два типа культуры. «Холодная» культура рассчитана на максимально точное воспроизведение текстов, например сакральных (таковы архаические культуры). «Горячая» культура настроена не столько на воспроизведение созданных текстов, сколько на их решительное обновление (это характерно для европейской культуры). В тексте также различаются тематическая и рематическая стороны, данное и новое. «Культура по своей сути рематична, она обновляется и самообогащается», — указывает Л. Н. Мурзин [13, с. 166—169].
Текст в культурологическом ракурсе —это речевое (или шире: знаковое) образование, которое имеет внеситуативную ценность. Это результат однажды состоявшегося и затвердевшего речевого акта, бесконечно существующего высказывания.
Жизнь человека состоит из перманентного пересказывания, свивания прошедших жизненных ситуаций в ниточки нарративных последовательностей памяти с каноническими узелками завязок, перипетиями и завязками, типовой фабулой конфликта и т. д. —«словесную чувственную ткань человеческого опыта. Это длящееся переживание жизни становится ясным и понятным, только будучи вписанным в мир умерших событий —в мир прошлого истории, в мир человеческой памяти», —пишет П. Ф. Тищенко [14, с. 284].
Р. Барт в культурологической работе «Смерть автора» высказал мысль, что «текст представляет собой не линейную цепочку слов, выражающих единственный, как бы теологический смысл (“сообщение” Автора-Бога), но многомерное пространство, где сочетаются и спорят друг с другом различные виды письма, ни один из которых не является исходным; текст соткан из цитат, отсылающих к тысячам культурных источников» [5, с. 388].
Однако изучение «источников» и «влияний» покрывает лишь ту —весьма незначительную —часть текста, где автор еще не
-вполне утратил сознательную связь с культурным контекстом, между тем как на деле всякий текст сплетен из необозримого числа культурных кодов, в существовании которых автор, как правило, не отдает себе ни малейшего отчета. Культурный «код», по Барту, «это перспектива множества цитаций, мираж, сотканный из множества структур... единицы, образуемые этим кодом, суть ни что иное, как отголоски чего-то, что уже было читано, видено, сделано, пережито: код является следом этого “уже”. Отсылая к уже написанному, иными словами, к Книге (к книге культуры, жизни, жизни как культуры), он превращает текст в каталог этой книги» [5, с. 27-28].
В зависимости от принадлежности/не-принадлежности к гуманитарной сфере тексты разнятся следующим образом: первые индивидуально авторски окрашены, информативно-эмоциональны, диалогичны по природе. Примерами подобных текстов являются публицистические, художественные. Во вторых, соответственно, отсутствуют эмоциональная окраска, интонация, они монологичны. Это тексты, относящиеся к математической, естественной, юридической сфере научного знания.
Диалогичности уделяется особое место в концепции М. М. Бахтина, согласно которой текст, связанный с общей идеей диалогизма, может рассматриваться с точки зрения его причастности к модели культуры, основанной на идее диалога как центральном принципе существования человека в культурном контексте.
Воспринимая текст как воплощение «чужих мыслей, смыслов и значений», М. М. Бахтин видит за ним личность другого человека, автора текста. Соприкасаясь с текстом, ученый (читатель) вступает в диалогические отношения с другой личностью, и в эти моменты личностного проникновения осуществляется новая жизнь текста. Текст, в понимании Бахтина, —«не объект, не безличное оно, он —собеседник (герой), подобно слову», о котором пишет Бахтин, «хочет быть услышанным, всегда ищет ответного понимания и не останавливается на ближайшем понимании, а пробивается все дальше и дальше (неограниченно)», он несет в себе проявления личностных черт автора и является субъектом культуры [15, с. 306]
Таким образом, текст, существующий в культуре, —это тщательно проработанное автором речевое образование, не теряющее ценности и актуальности вне ситуации и независимо от времени.
Принадлежащий гуманитарной сфере текст «является носителем устойчивых и стабильных, внеситуативно значимых сведений, идей, умонастроений, смыслов —средоточием духовно-практического опыта тех или иных общественных групп и отдельных личностей. Наиболее яркие образцы текстов содействуют свободному единению как малых человеческих общностей, так и целых народов и всего человечества. Именно такова их великая миссия в составе культуры», —пишет С. В. Канныкин [16, с. 135].
Общей для структурализма и постструктурализма, выделенных нами в четвертую группу, является проблематизация понятия «текст». Если структурализм подменил бытие этого понятия бытием его бессознательной структуры, то постструктурализм —бессознательной, многомерной глубиной его Текста (интертекста). Принципу однозначного «структурного объяснения» текста постструктурализм противопоставил принцип его множественного смыслового «прочтения».
В концепции структурной антропологии К. Леви-Строса в качестве текста рассматриваются не только фиксированные в письменной форме понятийные конструкции, но способ, каким феномены действительности даны человеку, включая чувственный уровень восприятия. Отвергая любой философский дуализм, К. Леви-Строс аргументирует в пользу закодиро-ванности в виде бинарных оппозиций (текстуальности) как самых «непосредственных» ощущений, так и ментально обработанной информации [17, с. 275].
Если использовать постструктуралистские оппозиции (тождество/различие; един-ство/множественность; моносемия/полисе-мия; гомогенность/гетерогенность; систем-ность/внесистемность; интеграция/дезинтег-рация; линейность/объемность; закрытость/ открытость; монолог/полилог; структура/ игра) как аналитический инструмент, они позволяют преодолеть одномерное отношение «структура —текст» и выйти в многомерное пространство Текста (Р. Барт), или интертекста (Ю. Кристева).
Ключевым термином в постструктуралистском подходе к тексту принято считать понятие «интертекстуальности», введенное Ю. Кристевой под влиянием работ М. М. Бахтина и детально рассматриваемое в работах Р. Барта [5, с. 413—422]. Именно с постструктурализмом связывается введение термина «текст» в гуманитарные науки. «Текст» и «интертекст» являются в определенном смысле равноценными понятиями. Под интертекстом понимается бесконечное поле культурных кодов, цитаций, взаимоотсылок и пересечений, различных текстов. С ним совпадает способ существования (чтения) любого текста, границы которого в этом поле принципиально не определимы — текст порождает новые смыслы. Для подчеркивания этого особого статуса текста Р. Барт вводит разделение «текста» как продуктивного процесса и «произведения», как внешней фиксированной формы, создающей иллюзию самотож-дественности. «...Произведение есть вещественный фрагмент, занимающий определенную часть книжного пространства (например, в библиотеке), а Текст —поле методологических операций (un champ methodologique). Произведение может поместиться в руке, текст размещается в языке, существует только в дискурсе», —отмечает Р. Барт [5, с. 415].
Синтезом новой —«текстоцентричной» — методологии гуманитарного знания, осмысляющей особенности видения текста как предмета вышеперечисленных наук, выступает формирующаяся в России усилиями В. П. Руднева ги€его Гпоследователей < «фило софия текста». Философия текста —разрабатываемая автором словаря концепция текста, синтезирующая ряд подходов научной и философской методологии XX в. (семиотики, лингвистической и философской прагматики, логической семантики, теоретической поэтики, аналитической филологии, различных направлений психоанализа, исследований по мифологии и характероло- гии). Сущность нового направления философии В. П. Руднев излагает в семи пунктах:
-
1. Все элементы текста взаимосвязаны. Это тезис классической структурной поэтики.
-
2. Связь между элементами текста носит трансуровневый характер и проявляется в виде повторяющихся и варьирующихся единиц-мотивов. Это тезис мотивного анализа. Если мы изучаем культуру как текст (в духе идей Ю. М. Лотмана), то на разных ее уровнях могут проявляться одинаковые мотивы.
-
3. В тексте нет ничего случайного. Самые свободные ассоциации являются самыми надежными. Это тезис классического психоанализа.
-
4. За каждым поверхностным и единичным проявлением текста лежат глубинные и универсальные закономерности, носящие мифологический характер. Это тезис аналитической психологии К. Г. Юнга. В XX в. эта особенность наиболее очевидным образом проявляется в таком феномене, как неомифо-логизм. Так, в стихотворении Б. Пастернака «Гул затих. Я вышел на подмостки» под «Я» подразумеваются и автор стихотворения, и Иисус Христос, и Гамлет, и всякий, кто читает это стихотворение. Глубинный мифологизм проявляется также в обыденной жизни, если понимать ее как текст. Так, например, Юнг показал, что выбор сексуального партнера зависит от генетически заложенного в индивидуальном человеческом сознании коллективного архетипа.
-
5. Текст не описывает реальность, а вступает с ней в сложные отношения. Это тезис аналитической философии и теории речевых актов.
-
6. То, что истинно в одном тексте (возможном мире), может быть ложным в другом (это тезис семантики возможных миров).
-
7. Текст —не застывшая сущность, а диалог между автором, читателем и культурным контекстом. Это тезис поэтики М. М. Бахтина.
«Применение этих семи принципов, традиционных самих по себе, к конкретному художественному тексту или любому друго- му объекту, рассматриваемому как текст, составляет сущность философии текста», — отмечает В. П. Руднев [2, с. 335—336].
С. в. В. нКанныкинI полагает, чтоэ форми вание «философии текста» диагностирует переход гуманитаристики от «лингвоцентричного» научного дискурса к «текстоцентричному» культурологическому. Попытаемся кратко их охарактеризовать.
Научный дискурс ратует за объективную истину, отсутствие личностной оценки, строгую определенность. В настоящее время строгость научного дискурса смягчается современной социокультурной ситуацией, в которой каждый человек, каждая нация способны бороться за собственные интересы, одновременно учитывая интересы других субъектов культуры. Следствием этого является развивающаяся демократичность культуры, открывающая перспективы для взаимодействия разных культур, развития информационных технологий, всеобщего противостояния проблемам экологии, осознания уникальности, идентичности каждого человека, группы, нации.
Стремление к единой истине является чертой любого диалога, любой коммуникации, в том числе культурологической. Но если в прошлом почти любую достигнутую истину считали окончательной, то сегодня приходит сознание того, что истина никогда не завершена, что она есть лишь «момент истины», соответствующий достижению взаимопонимания.
В культурологическом знании время от времени происходит столкновение мнений. Противоречия в ней не сглаживаются, а подвергаются усиленному обсуждению.
Ни один из дискурсов традиционного типа —религия, философия, этика, наука, идеология —не охватывает всей культуры. Никому не удалось объединить все системы ценностей в одну. Никто не открыл такой точки зрения, в которой все в универсуме жизни и культуры может быть понято и оценено. И это, скорее всего, невозможно. Традиционные дискурсы выбрали какую-то одну точку зрения, объявляя ее универсальной. Культурологический дискурс принципиально диалогичен. Истина рождается в нем на пересечении точек зрения. Ведь и культу- ра не есть статичный космос, не есть монологический текст. Строго говоря, культура не есть данность, существующая реальность. Это «виртуальная реальность», которая творится ежечасно и ежеминутно, при каждой встрече, при каждом разговоре. Поэтому «диалог есть наиболее естественная, аутентичная форма бытия культуры», — пишет Э. Соколов [[18, с. 1 169].
По мысли Т. В. Артемьевой, одна из особенностей «культурологического взгляда на мир» заключается в его комплексности, так как культурология предполагает способность видеть «сквозные» проблемы, обретшие бытие «на стыке» разнопорядковых явлений, специфический «срез» целого пласта культуры, рассматриваемый как однородный «текст». Таким «текстом культуры» может стать христианский храм, дворянская усадьба, костюм, комплекс языковых символов, мифологическая система и т. д. Появление таких текстов и их место в иерархической системе культурных символов детерминируется исторически и связано с типом рациональности, национальными традициями, религиозными установками и т. д. Каждая эпоха предлагает свой «набор» текстов, значение и содержание которых может измениться со временем. Можно выявить тексты, характерные для разных эпох, но, тем не менее, и они меняют содержание, а тем более стратегии прочтения. Прочтение предполагает выбор языка, на котором оно должно осуществиться, а значит, и «словаря» или системы понятий, необходимых для понимания текста, осмысления его и коммуникаций по поводу этого текста. Более того, для прочтения каждого конкретного «текста» требуется свой набор понятий, иногда неприемлемый для работы с другими текстами. Так, изучение русской культуры невозможно без поня- тий «русский Бог», «русская душа», «третий Рим» и т. д.
В связи с этим представляется верной точка зрения А. А. Гагаева, согласно которой «общая онтология, или эстетическая основа художественных миров классики есть миры русской культуры (русского культурно-исторического типа). В их светло бесконечных пространствах странствует художник, отвечая и вопрошая к их смыслам и переживаниям и являя в этом и русскую и иные культурно-исторические традиции. В качестве историко-культурного ориентира выявления переживания читателем художественных миров автора в нашем прочтении является отечественное мировидение и миро-чувствование. В указанной реальности и понятии, его выражающем, и явлены параметры историко-культурного континуума становления и развития художественных интуиций... русских писателей» [19, с. 51].
Различные подходы к изучаемой проблеме предполагают различные виды организации, или «квантования», материала. Для историков это «эпохи», для литературоведов — «жанры», «стили», «авторы», для историков философии — «направления», «школы» и «основатели школ». Рассмотрение культуры в виде системы «текстов» или «срезов», захватывающих различные ее проявления, но организованных в едином объеме рассмотрения, дают возможность для действительного «научного» анализа такой сложной структуры, как культура, результатом которого становится не «кусок», а «элемент», по словам Т. В. Артемьевой [20, с. 325—327].
Таким образом, социокультурная ситуация рубежа XX —XXI вв. создает предпосылки для трактования философии текста как философии культуры, и изучение первой неотделимо от изучения текста культуры.
ФИЛОСОФИЯ
Список литературы Основные компоненты, презумпции и тенденции методологии текста
- Лихачев Д. С. Текстология/Д. С. Лихачев. -СПб.: «Наука», 1983. -639 с.
- Руднев В. П. Энциклопедический словарь культуры ХХ века: Ключевые понятия и тексты/В. П. Руднев. -М.: АГРАФ, 2001. -608 с.
- Луи Э. Текста не существует. Размышления о генетической критике/Э. Луи//Генетическая критика во Франции: антология. -М.: ОГИ, 1999. -С. 115-134.
- Дмитриева Е. Е. Генетическая критика во Франции/Е. Дмитриева//Генетическая критика во Франции: антология. -М.: ОГИ, 1999. -С. 3-22.
- Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика/Р. Барт. -М.: Прогресс, 1989. -616 с.
- Пятигорский А. М. Мифологические размышления: Лекции по феноменологии мифа/А. М. Пятигорский. -М.: Языки русской культуры, 1996. -288 с.
- Лотман Ю. М. Об искусстве: Структура художественного текста/Ю. М. Лотман. -СПб.: «Искусство -СПб», 1998. -750 с.
- Лотман Ю. М. История и типология русской культуры/Ю. М. Лотман. -СПб.: « Искусство -СПб», 2002. -768 с.
- Гадамер Г.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики/Г.-Г. Гадамер. -М.: Прогресс, 1988. -704 с.
- Логический анализ языка: Языки пространств/РАН, Ин-т языкозна-ния; отв. ред.: Н. Д. Арутюнова, И. Б. Левонтина. -М.: Яз. рус. культуры, 2000. -448 с.
- 11, Витгенштейн Л. Коричневая книга/Людвиг Витгенштейн. -М.: Дом интеллектуальной книги, 1999. -159 с.
- Успенский Б. А. Избранные труды. В 2 т. Т. 2: Язык и культура/Б. А. Успенский. -М.: Гнозис, 1994. -686 с.
- Воробьев В. В. Лингвокультурология (теория и методы)/В. В. Воробьев. -М.: Изд-во РУДН, 1997. -331 с.
- Мурзин Л. Н. О лингвокультурологии, ее содержании и методах/Л. Н. Мурзин//Русская разговорная речь как явление городской культуры: сб. науч. тр./под ред. Т. В. Матвеевой; Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького, Ин-т рус. культуры. -Екатеринбург, 1996. -С. 7-13.
- Мурзин Л. Н. Язык, текст и культура/Л. Н. Мурзин//Человек-текст-культура/под ред. Н. А. Купиной, Т. В. Матвеевой. -Екатеринбург, 1994. -С. 160-169.
- Тищенко П. Ф. О технологиях разбиения человеческого существа на душу и тело. О производстве самости через выражение индивидуальных историй в слове/П. Ф. Тищенко//Логос живого и постижение телесности. Постижение культуры: ежегодник. Вып. 13-14/Фед. агентство по культуре и кинематографии; Рос. ун-т культурологии; ред. кол.: О. К. Румянцев (отв. ред.) [и др.]. -М., 2005. -С. 283-281.
- Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества/М. М. Бахтин. -М.: Искусство, 1979. -422 с.
- Канныкин С. В. Текст как явление культуры (пролегомены к философии текста)/С. В. Канныкин. -Воронеж: РИЦ ЕФ ВГУ, 2003. -143 с.
- Леви-Строс К. Структурная антропология/Клод Леви-Строс. -М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. -512 с.
- Соколов Э. Культурология как дискурс и проблема самоидентичности в современном мире/Э. Соколов//В лабиринтах культуры. Вып. 2. -СПб., 1999. -С. 169-176.
- Гагаев А. А. Художественный текст как культурно-исторический феномен/А. А. Гагаев. -М.: Флинта: Наука, 2002. -184 с.
- Артемьева Т. В. Короткая нить Ариадны/Т. В. Артемьева//В лабиринтах культуры. -СПб., 1999. -Вып. 2. -С. 325-327.