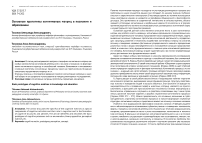Основные прототипы когнитивных матриц в познании и образовании
Автор: Тихонов А.А., Тихонова А.А.
Журнал: Поволжский педагогический поиск @journal-ppp-ulspu
Рубрика: Философия образования и воспитания
Статья в выпуске: 2 (20), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются вопросы специфики когнитивных матриц как особых компонентов когнитивной деятельности и их роли в познании и в формировании когнитивных структур и способностей человека. Выявляются и описываются основные прототипы когнитивных процессов, такие как перечисление, бинарная оппозиция, перцептивные матрицы и т.п. Описаны причины и последствия введения понятия «когнитивная матрица» в научный оборот и его широкого использования в междисциплинарных исследованиях.
Когнитивные матрицы, прототипы, перцепция, концепция
Короткий адрес: https://sciup.org/14219814
IDR: 14219814 | УДК: 37.025.7
Текст научной статьи Основные прототипы когнитивных матриц в познании и образовании
Понятие «когнитивная матрица» не входит в число междисциплинарных и широко употребляемых в науке концептов, однако оно обладает, по-нашему мнению, глубоким смыслом и эвристическим потенциалом. В настоящее время это понятие используется лишь некоторыми науками и находится на периферии общенаучного и философского дискурса. Оно применяется в современной лингвистике в качестве термина, обозначающего устойчивые когнитивные и вербальные модели. В психологии и в теориях принятия решений это понятие истолковывается как разновидность когнитивной карты и концептуального поля принятия решений.
Основной задачей данной статьи является описание места и роли когнитивных матриц как особого класса «неявных» когнитивных феноменов в познавательно-конструктивной деятельности человека. Представляеттакже определённый интерес, задача выявления основных глубинных прототипов когнитивной деятельности, определяющих структуру, развитие и механизмы воздействия когнитивных матриц на сознание, психику и поведение человека. Достижение упорядоченности знаний и преодоление различных типов и видов неопределённости в познаваемой ситуации представляют собой, в конечном счёте, фундаментальные и главные цели когнитивной деятельности человека. Когнитивные матрицы играют существенную и во многом определяющую роль в достижении этих фундаментальных целей.
Одним из первых учёных, приступивших к научному, эволюционному исследованию факторов становления когнитивных структур и способностей человека, был знаменитый австрийский этолог К. Лоренц. Многие современные учёные считают его родоначальником эволюционной эпистемологии. В своей классической работе «Оборотная сторона зеркала (опыт естественной истории человеческого познания)» [Лоренц 2008] он даёт глубокий анализ природных предпосылок и факторов когитогенеза. Когнитивные процессы, по его мнению, «...и данный нам a priori аппарате помощью которого только и возможно индивидуальное приобретение опыта, имеют своей предпосылкой огромную массу информации, полученной в ходе эволюции и хранящейся в геноме» [Лоренц 2008:419].
К. Лоренц вводит в своей работе весьма ёмкое и плодотворное понятие «прототип когнитивного процесса», выражающее некую фундаментальную структуру, свойственную психике и поведению людей и высших животных. Этот прототип он выводит из жизнедеятельности и поведения людей и животных, которые «являются не приспособлением, а функцией уже приспособленного механизма. Готовую информацию о биологически «правильных» ситуациях и о средствах, позволяющих ему с ними справляться, организм получает заранее», в формах «прототипов когнитивного процесса» [Лоренц 2008: 572 - 575]. Можно предположить, что основные, возникшие в глубокой древности, «прототипы когнитивного процесса» и поныне формируют «глубинные структуры» когнитивных матриц и существенно влияют на психику и сознание человека.
Известно, что в традиционной «философии сознания», начиная с Р. Декарта, выделяются и абсолютизируются осознаваемые субъектом, явные и «очевидные» компоненты, формы и процессы когнитивной деятельности. В различных течениях иррационализма, напротив, преувеличиваются место и роль несознаваемых компонентов и механизмов когитации. В реальных же процессах когнитивной деятельности, как и в психике в целом, неизбежно сосуществуют и взаимодействуют как осознаваемые, «явные», так и неосознаваемые, «неявные» компоненты и процессы. В психологии проблема бессознательного исследуется различными учёными и научными школами уже несколько столетий. В теории познания, начиная с И. Канта, проблематика трансцендентальных предпосылок и априорных форм когнитивной деятельности субъекта представлена, по нашему мнению, недостаточно и в чрезмерно абстрактном, «знаниецентристском» виде.
«Философия сознания», господствующая в западноевропейской культуре на протяжении нескольких последних столетий, главной и определяющей способностью человека и всей его жизнедеятельности считала сознание, понимаемое учёными и философами в различных смыслах. Логоцентризм, рационализм, панлогизм, сциентизм и другие подобные течения философии и духовной культуры в целом - все это лишь частные формы, своеобразные ипостаси «со-знание-центризма», сохраняющего и поныне свои позиции в мировоззрении многих людей и сообществ.
Иррационализм, философия жизни, интуитивизм, экзистенциализм, многие идеи и школы современной психологии, а также трагический социокультурный опыт человечества последних столетий убедительно показали, что человек - существо не только разумное и умопостигаемое, но также и иррациональное, не постижимое одним лишь сознанием.
Психическая жизнь человека не может быть в принципе сведена к его сознанию и тем более к любой теоретической, будь то философская или научная, модели или концепции. Известный учёный М. Полани в своей книге «Личностное знание» достаточно чётко и детально описал необходимый и присущий всем людям уровень неосознаваемой когнитивной деятельности, который он определял как имплицитный, неявный, неосознаваемый и невербальный. В психологии существует множество школ и направлений, исследующих различные формы существования и функционирования подсознания, бессознательного, «над-сознания» и т.п. В своём известном высказывании И. Кант показал необходимость «ограничения прав разума, чтобы дать место вере». Нечто подобное необходимо сделать и в современной философии, особенно в её разделах, связанных с теорией познания - в эпистемологии, гносеологии, философии науки. Необходимо не столько ограничить права сознания, сколько выявить реальную сферу его существования в жизнедеятельности и психике человека и сообществ. Именно поэтому в последние десятилетия явно наблюдается сокращение сферы использования понятий «сознание», «знание», «теория», «разум». И, напротив, все шире употребляются понятия «когнитивный», «информация», «конструктивизм», «компетенция», «виртуальность», «фреймы», «данные» и т.п. Даже в подобном словоупотреблении проявляется некоторая девальвация идей и определённый кризис «философии сознания», её «неполное служебное соответствие» современным факторам и тенденциям развития когнитивной деятельности человека и различных сообществ.
Комплекс когнитивных дисциплин, интенсивно развивающийся в последние десятилетия, в отличие оттрадиционных разделов философии, ориентирован на исследование и в определённой мере - на конструирование и проектирование многомерной и комплексной психической деятельности людей и сообществ, не только познающих, но и преобразующих и даже созидающих новые формы объективной и субъективной реальности.
Когнитивная деятельность включает в себя широкий спектр форм, методов и способов психического и духовного освоения мира человеком. Сознание при всей его важности и доминантности в жизни человека - не более чем аспект или фрагмент когнитивной деятельности. Поэтому традиционные понятия «познание» и «сознание» следует использовать только с учётом общего когнитивного контекста, который слишком часто и явно недооценивается представителями рационализма, сциентизма и других форм «философии сознания». К.Г. Юнг писал, что «современный человек не понимает, насколько «рационализм» (уничтоживший его способность к восприятию символов и идей божественного) отдал его во власть психического «ада». Он освободился от «предрассудков»,... растеряв при этом свои духовные ценности. Его нравственные и духовные традиции оказались прерваны, расплатой за это стали всеобщие дезориентация и распад, представляющие реальную угрозу миру» [Юнг 1997:91].
В этом смысловом контексте целесообразно обратиться к понятию «когнитивная матрица», которое выступает в качестве хоть и малого «шага», но в нужном направлении - к обретению должной целостности, к «исцелению» психической и когнитивной деятельности.
Высказывание Юнга о значимости «предрассудков», ценностей и традиций следует понимать в том смысле, что когнитивные матрицы выступают в психике человека в качестве особых «пред-рассудочных» и не полностью осознаваемых структур, определяющих процессы и содержание осознаваемой и рассудочной деятельности. Несколько упрощая реальные когнитивные процессы, можно предположить, что когнитивные матрицы выступают в качестве неявных «когитаций», но при этом императивных, предписывающих и нормативных предпосылок и факторов интеллектуальной деятельности человека. В свою очередь, осознаваемый контент этой деятельности является способом реализации и экспликации, «развёртывания» данных матриц на разнообразном материале большинства познаваемых объектов и предметов, образов и смыслов.
Введение понятия «когнитивная матрица» в научный оборот и его широкое использование в междисциплинарных исследованиях обусловлено двумя основными соображениями. Во-первых, «матрица» как особая реальность, при всей многозначности этого понятия, характеризуется императивным - предпосылочным и предписывающим потенциалом, но при этом обладает неявностью существования и функционирования. В конечном счёте, следует учитывать, что русифицированное немецкое слово «матрица» происходит от латинского слова «matrix», обозначающего матку. Именно этот порождающий, в прямом смысле слова, орган и выступает в качестве метафоры понятия «матрица». Во-вторых, матрица способна тиражировать, воспроизводить свою структуру и своё неявное содержание, контент в серии типичных и характерных для неё самой идеальных «продуктов»,таких как идеи, концепции,теории, проекты и т.п. Данные продукты следует понимать как эпифеномены и «порождения» матрицы, через которые собственно феноменальные параметры матрицы можно выявить и реконструировать.
Глубинная структура когнитивных матриц определяется как природными - онто- и филогенетическими,так и социокультурными факторами. В качестве содержания этих матриц могут выступать множество архетипов, мифологем, установок, ценностей и другого «контента» памяти и неосознаваемых структур психики человека.Так, по мнению К. Лоренца, бинарная оппозиционность, «разделение мира явлений на пары противоположностей есть врождённый принцип упорядочения, априорный принудительный стереотип мышления, изначально свойственный человеку» [Князева 2012:502]. К подобным неявным компонентам матрицы и «принудительным стереотипам» следует отнести мифологемы «мирового древа», «метафизики света», парадигмы, религиозные догмы, а также множество современных мемов и мемплексов как особых когнитивных вирусов [Тихонов 2014:152].
У большинства людей, как известно, процессы и содержание мышления осознаются не в полной мере и включают в себя множество интуитивных бессознательных действий и операций. Поэтому вполне обоснованно можно предположить, что когнитивные матрицы, детерминируя во многом процессы мышления и познания, по отношению к сознанию индивида и сообщества остаются как бы в тени, на положении «суфлёра» или же в «когнитивном Зазеркалье». Как и в любой матрице, будьте в математике или в штампе для прессования, «внутренняя форма» когнитивной матрицы способна «порождать» или формировать различные объекты из исходного материала. В когнитивной деятельности человека этим «материалом» служат исходные данные как «информационное сырьё». При этом когнитивная матрица зачастую не осознается как особая совокупность определённых знаний, но при этом она может «выражаться во-вне», эксплицироваться как система предписаний, набор конкретных операций или осознаваемых действий.
В качестве простого и наглядного примера подобных матричных предписаний можно привести детскую считалочку-инструкцию по схематичному изображению человеческого лица и фигуры: «Точка,точка, запятая - вышла рожица кривая; ручки, ножки, огуречик- получился человечек». Эта матрица может быть реализована как рисунок на любом материале - на асфальте, на листе бумаги, на стене в виде граффити.
Множество различных когнитивных структур могут быть истолкованы в качестве матриц. К ним можно отнести таблицу умножения, особенно в варианте Пифагора, устойчивые формы восприятия, которые именуются паттернами, энграммами, перцептивными моделями, эйдосами и т.п. Наличие дублирующей терминологии показывает, кстати, отсутствие адекватного и общепринятого понимания и слабую исследованность этих когнитивных структур. В сфере мышления часто используются стереотипы, клише, шаблоны, предрассудки и т.п., которые также выступают в качестве социокультурных когнитивных матриц.
Понятно, что когнитивные матрицы не возникают в результате некой «филиации идей» по Гегелю. Они, как правило, выражают значимые для человека и сообщества социокультурные явления и отношения. Так, в качестве когнитивной матрицы можно рассматривать системы родства и соответствующие схемы, и термины, выражающие связи человека со своими родственниками. Однако в процессах социального развития, как правило, родо-племенные и даже кровно-родственные отношения и связи слабеют и это часто приводит к тому, что слова, выражающие различные формы и степени родства, используются всё реже и могут совсем выпасть из оборота. Матрицы при этом теряют свои компоненты и упрощают структуру. Такие понятия как «тёща», «шурин» ещё находятся в относительно широком использовании, но уже «стрый», «золовка», «деверь» - слова, выражающие степень родства, становятся для многих людей архаическими и непонятными.
Широко распространённые понятия «познавательная модель», «дисциплинарная матрица», «парадигма», «эпистеме», и другие подобные «познавательные функционалы» (В.М. Найдыш) могут быть рассмотрены в качестве частных проявлений общих когнитивных матриц, действующих преимущественно в сфере научного познания. Когнитивная матрица выступает в качестве совокупности определённых программ, форм и алгоритмов не только научно-познавательной, но и конструктивной, прогностической, оценивающей и многих других видов деятельности, в которых у человека ведущую роль играют собственно когнитивные процессы.
Совокупность когнитивных матриц можно истолковать в качестве особого «пакета программ» и смысло-порождающего ядра менталитета (ментальности) как определённых сообществ, этносов или культур, так и отдельных личностей, выступающих субъектами - носителями данных культур, представителями этносов или сообществ.
Понятие менталитета как субъективной стороны или фактора исторического процесса было введено в науку французскими учёными школы «Анналов» - М. Блоком, Л. Февром и др. - и широко использовалось многими учёными. Так, А.Я. Гуревич пишет, что «на любой стадии развития человеческого общества в сознании людей (точнее - в их психике -А.Т.) существует эта магма представлений, ощущений, психологических установок - mentaLite. Она всякий раз может быть иной в зависимости от стадии развития, от характера общества и других факторов... Но она существует всегда, и определить её очень трудно» [Гуревич 2004:115].
Образ магмы, как и любое «хромающее» сравнение, не в полной мере выражает специфику менталитета, поскольку наряду с пластичными, «магмоподобными» и вариативными компонентами в нём широко представлены когнитивные матрицы - т.е. относительно «жёсткие и твёрдые» фрагменты менталитета и любого дискурса как его вербально-логического выражения. Тем самым менталитет можно представить как некоторую динамическую и самоорганизующуюся систему, в которой представлены разнородные - «твёрдые, предписывающие» и «вязкие, описывающие» компоненты. Данное представление позволяет в новом аспекте поставить и истолковать проблему соотношения априорного и апостериорного знания. По мнению некоторых философов, кантовская дихотомия этих видов знания была «снята» и разрешена К. Лоренцом, который в своих фундаментальных работах, обосновал и «показал, что кантовские априорные категории суть филогенетически апостериорное знание, возникшее в ходе эволюции человеческого рода» [Лоренц 2008: 516]. Этот двойственный характер (априорный и апостериорный, явный и неявный, предписывающий и описывающий, диахронический и синхронический) в максимальной степени присущ когнитивным матрицам.
Когнитивные матрицы в синхроническом плане выступают в качестве «жёстких», устойчивых стереотипов и способов упорядочивания знаний, но в диахроническом аспекте, как и другие структурные компоненты психики и «жизненного мира» субъекта, носят в целом социокультурный и исторически развивающийся характер. Это важное обстоятельство позволяет выявить в самом общем виде их содержание, динамику их развития, формы и способы их воздействия на когнитивные процессы и жизнедеятельность людей и сообществ.
Г. Гадамер писал, что «разум существует для нас лишь как реальный исторический разум, а это означает только одно: разум не сам себе господин, он всегда находится в зависимости от тех реальных условий, в которых проявляется его деятельность» [Гадамер 1988: 528]. Он конкретизирует эту мысль, говоря о том, что «понятийная система, в которой развёртывается философствование, всегда владела нами точно так же, как определяет нас язык, в котором мы живём. Осознать подобную предопределённость мышления понятиями - этого требует добросовестность мысли» [Гадамер 1988:45]. Последнее положение можно обобщить в плане того, что не только частное философствование, но и любая когнитивная деятельность предопределяется рядом факторов, к которым, помимо осознаваемых понятийных систем, можно отнести лишь частично нами осознаваемые когнитивные матрицы.
Можно провести аналогию между усвоением когнитивных матриц и хорошо исследованным и описанным в этологии феноменом импринтинга - особого механизма восприятия и психического запечатления значимой для отдельной особи информации. Импринтинг как запечатление информации представляет собой особую критическую точку, в которой апостериорное знание становится априорными формами познания по отношению к дальнейшим когнитивным процессам. Но поскольку импринтинг обусловлен, в конечном счёте, генетическими программами, то его осознание и какое-либо регулирование в принципе затруднено и зачастую невозможно. На ранних стадиях развития ребёнка (и предположительно наших далёких предков) многие когнитивные процессы и соответствующие им структуры также обусловлены врождёнными факторами и генетическими программами, но при этом они интенционально открыты социокультурному воздействию и преобразованию, в том числе и с помощью воспринимаемых матриц.
Базовым и исходным когнитивным процессом и «механизмом» большинство философов и учёных считают перцепцию, те. сферу чувственного восприятия, которое в существенной степени определяется природными - биологическими и психическими задатками. В плане выявления места и роли основных когнитивных матриц, характерных для перцепции, следует указать на существование особого рода психических «данных», называемых рядом учёных субцепцией.
«Имеющие глаза, да не видят» - этим библейским суждением хорошо описывается сущность субцепции, информационные объёмы которой на порядок больше перцепции, те. осознаваемого содержания восприятия. Когнитивная матрица из огромных объёмов сенсорной информации отбирает в качестве перцепции только значимую для субъекта информацию, порядка 10 %. Остальные 90 % информации идут в «отход» и составляют неосознаваемое содержание субцепции. Селективная функция когнитивных матриц может быть хорошо проиллюстрирована умением многих людей выделять на ночном небе известные им созвездия.
Когнитивные матрицы лежаттакже в основе определения различных видов растений, животных, грибов и т.п. В целом к когнитивным матрицам перцепции следует отнести психофизиологические автоматизмы, неосознаваемые паттерны, программы и алгоритмы извлечения или построения чувственных образов воспринимаемых объектов.
При этом следует учитывать, что социокультурные факторы, вносящие в содержание психики комплексы новых представлений и мемплексов, способны изменять целый ряд алгоритмов перцепции. Так, например, известно, что восприятие перспективы и «глубины изображения» на картинах и фотографиях есть результат целенаправленного обучения. Даже простые фонемы, отдельные слова, начертания букв, при всей их видимой привычности, обладают условной, конвенциональной и «матричной природой», которая нами зачастую не воспринимается и не осознается.
Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что исторически первые когнитивные матрицы как прототипы когитаций строились на перцептивной основе метафор, мифологем и других наглядно-образных представлений. При этом когнитивные матрицы образуют автономные комплексы, «которые как всякие психические образования... первоначально развиваются совершенно неосознанно и вторгаются в сознание, лишь, когда набирают достаточно силы, чтобы переступить его порог» [Тихонов 2014:115]. Автономность когнитивных матриц хорошо иллюстрируется примерами наглядных химерических «существ», характерных для многих этнических мифологий, таких кентавры, русалки, минотавры и т.п.
Более сложные - концептуальные матрицы, задающие некие автономные алгоритмы осознания реальности, могут возникать при наложении двух и более архаических способов упорядочивания и осмысления мира, а именно - перечисления и бинарной оппозиции. Так, по мнению Ю.В. Чайковского, «хотя этнологи полагают первичным бинарное мышление (посредством оппозиций), однако у гептадора (автора древнейшего текста «Трактат о седмицах» - А.Т.), мы видим ещё более раннее мышление, где преобладает перечисление. Оно у него уже освоено,тогда как оппозиции едва намечены» [Чайковский 2012: 555]. Перечисление как простая логическая процедура линейного упорядочивания объектов создаёт некую «когнитивную горизонталь», которая как бы не «замечает», или же отвлекается, абстрагируется от качественных и существенных различий предметов, свойств, признаков. «Ряд - порядок - упорядоченность» как понятия не только связаны друг с другом, но и на семиотическом уровне показывают свой фундаментальный статус и архаические смыслы. Бинарная оппозиция, напротив, формирует «когнитивную вертикаль», позволяющую провести оценку свойств и выделить высшее и низшее, лучшее и худшее, важное и малозначимое.
Нетрудно заметить, что одна из самых распространённых когнитивных матриц, а именно - иерархия как общая модель бытия и структуры множества предметов образуется в результате наложения друг на друга простого перечисления и бинарной оппозиции, которые в совокупности образуют архетипический символ креста.
Интересно также отметить, что в архаических культурах большое, а зачастую и сакральное значение придавалось разделению натурального ряда чисел как «идеального» и типичного перечня на два оппозиционных уровня - чётные и нечётные числа. До сих пор чётное число цветов в букете символически связано со смертью, похоронами и трауром. В целом не только в нумерологии, но в различных видах гаданий, пророчеств, предсказаний и других формах магической практики, характерной для многих культур, когнитивные матрицы имеют большое значение и играют, как правило, определяющую роль.
Осознание и концептуализация перцептивной информации в значительной мере происходит уже на уровне использования языка, картины мира (как правило - научной), а также «личностного знания» (М. Полани) для описания и категоризации объектов. В этих процессах существенная роль принадлежит концептуальным матрицам.
По мнению известного учёного-лингвиста Н. Хомского, психические задатки и способности человека к усвоению «порождающей грамматики» и к использованию языка определяются генетической информацией, которая, естественно, «впрямую» не осознается человеком и также может выступать в качестве когнитивных матриц. Языки естественные и искусственные представляют собой сложнейшие семиотические системы, которые их носителями и субъектами применения осознаются далеко не в полном объёме.
Для большинства грамотных людей-носителей языка совокупность лингвистических знаний - это область господства семантических матриц, стереотипов, клише и других когнитивных матриц. В качестве общеизвестной когнитивной матрицы можно также рассматривать таблицу умножения, изучение которой в начальной школе обязательно и, как правило, её знание доводится до полного автоматизма. При заучивании теорем геометрии суждение о том, что сумма углов треугольника равна 180 градусам, становится своеобразной когнитивной матрицей. В английском языке, как и в ряде других аналитических языков, структура предложения также обладает жёстким, матричным характером.
В психологии существует концепция Р. Ассаджиоли и других учёных о существовании в психике у отдельной личности иных персоналистических подсистем, которые именуются суб-личностями. Это учение вполне корректно и эвристично, даёт возможность выявлять новые пласты эмпирической информации в психологии и психиатрии, оказывать психотерапевтическую помощь многим людям и т.п. В качестве особой кальки или концептуальной схемы эту идею о наличии многоуровневой структуры субъективной реальности можно использовать в эпистемологии и когитологии.Духовная культура при этом может быть истолкована в качестве трансцендентального субъекта, который, в отличие от представлений И. Канта, не только априорен по отношению к отдельному опыту или акту познания, но и апостериорен по отношению к динамике развития всей культуры человека и человечества. «Мерцающее когитальное Я индивида» (В.М. Подорога) может быть представлено в качестве привычной фигуры отдельного, «эмпирического» субъекта - индивида или сообщества. В этом случае когнитивные матрицы, обладающие как автономные комплексы своеобразной самостоятельностью, выступают в качестве «суб-личностей» или точнее - «суб-субъектов» познавательной деятельности, поскольку они, как это уже отмечалось выше, не подчиняются прямому сознательному регулированию и контролю.
В психологическом аспекте когнитивные матрицы зачастую выступают в качестве гештальта, те. особого целостного образа, в котором выделяют фигуру и фон или ядро и периферию. Подобная структура характерна также и для «исследовательских программ» И. Лакатоса. Аналогии данной структуре можно выявить в самых различных сферах бытия. Столица и провинция, ядро и другие органеллы клетки, центр и окружность круга, мозг и организм, руководитель группы и его подчинённые, метрополия и колонии и т.п. Привычность и даже известная универсальность восприятия и осмысления любого объекта на основе данного гештальта показывает, скорее всего, не его истинность, объективность и всеобщность, а, напротив, его субъективность как особого предрассудка и обусловленность когнитивной матрицей.
Многие тенденции в современной культуре и научном познании показывают, что миру в целом и многим сферам деятельности человека присуща в большей мере сетевая организация, в которой соотношение центра и периферии носят условный и относительный характер. Социокультурная обусловленность нашего разума и сознания приводят в настоящее время к тому, что идея сетевой организации мира в целом также становится своеобразной когнитивной матрицей, заставляющей нас видеть сетевые структуры повсюду и повсеместно.
Когнитивные и особенно концептуальные матрицы вполне могут быть синтезированы или наложены друг на друга, и в этом случае они будут действовать одновременно и даже иногда согласованно. Так описанные выше матрицы гештальта и сетевой организации, строго говоря, не противоречат друг другу и допускают их одновременное использование для описания и объяснения строения сложных систем по принципу комплементарное™ или взаимодополнительности.
Можно отметить, что принцип дополнительности, сформулированный Н. Бором, также может выступать в качестве когнитивной матрицы и применяться в чрезвычайно широком смысловом диапазоне. Сам Н. Бор неоднократно и не вполне корректно пытался распространить его на различные науки и реалии,такие как половой диморфизм, наличие гласных и согласных в языке, взаимодействие добра и зла и т.п. Нетрудно заметить, что принцип дополнительности исторически и логически связан как с бинарной оппозиционностью,так и с известным «законом диалектики» - единства и борьбы противоположностей.
Важно учесть, что некритичное осмысление и догматическое заучивание любых тезисов, идеологем и учений способно превратить их в когнитивные матрицы. Три закона диалектики, особенно в контексте идеологической «борьбы» и соответствующей пропаганды, легко становились матрицами, шаблонами и жёсткими стереотипами догматического мышления, поскольку они не способствовали развитию сознания и превращались из фактора адекватного познания в свою противоположность - в обскурантизм.
Список литературы Основные прототипы когнитивных матриц в познании и образовании
- Гадамер X. Г. Истина и метод. М.: Прогресс, 1988.700 с.
- Гуревич А. Я. История историка. М.: РОССПЭН, 2004.288 с.
- Князева Е.Н.Телесное и энактивное познание: новая исследовательская программа в эпистемолологии.//Эпистемология: перспективы развития/Отв. ред. В.А. Лекторский. М.: Канон+, 2012. 536 с.
- Лоренц К. Оборотная сторона зеркала (опыт естественной истории человеческого познания). М.: Культурная революция, 2008.616 с.
- Тихонов А. А. Древо познания: философские проблемы когитогенеза. М.: ФЛИНТА: Наука, 2014.200 с.
- Чайковский Ю. В. Лекции о доплатоновском знании. М.: Товарищество научных изданий КМ К, 2012.483 с.
- Юнг К. Г. Человек и его символы. М.: Серебряные нити, 1997.368 с.
- Юнг К. Г. Феномен духа в искусстве и науке. Собр.соч.т.15. М.: Ренессанс, 1992.320 с.