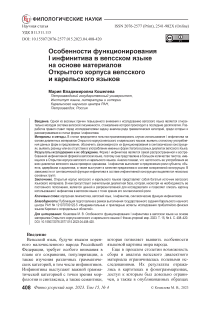Особенности функционирования I инфинитива в вепсском языке на основе материалов Открытого корпуса вепсского и карельского языков
Автор: Кошелева М.В.
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 4 т.15, 2023 года.
Бесплатный доступ
Введение. Одной из весомых причин повышенного внимания к исследованию вепсского языка является относительно молодая система вепсской письменности, становление которой происходит в последние десятилетия. Разработка правил ставит перед исследователями задачу анализа ряда грамматических категорий, среди которых и рассматриваемая в статье форма I инфинитива.
Корпусная лингвистика, вепсский язык, i инфинитив, синтаксические функции инфинитивов
Короткий адрес: https://sciup.org/147242402
IDR: 147242402 | УДК: 811.511.115 | DOI: 10.15507/2076-2577.015.2023.04.408-420
Текст научной статьи Особенности функционирования I инфинитива в вепсском языке на основе материалов Открытого корпуса вепсского и карельского языков
Вепсский язык, будучи языком коренного малочисленного народа Российской Федерации, требует особого внимания в плане его сохранения, популяризации, а также изучения различных грамматических категорий, в том числе инфинитивов. Инфинитивы выступают важной грамматической категорией с точки зрения морфологии и синтаксиса, а также семантики, которая позволяет выявить особенности языковой картины мира народа.
Еще в прошлом столетии возможность сбора и анализа вепсского диалектного материала ограничивалась полевыми исследованиями. Их результаты отражались в картотеках и фонограммархивах, доступ к которым был довольно ограничен, а также в опубликованных образцах вепсской речи, собранных российскими и финскими исследователями1 [11; 14; 16]. Так называемые образцы речи становятся все более востребованными в изучении не только языков коренных народов, но и фольклора и этнографии. Образцы речи в различных их видах являются источником уникальных сведений в этих сферах [4].
Набор традиционных методов анализа и получения языковых данных, к которым относятся сбор лингвистического материала, его запись, расшифровка и т. д., дополняется в наше время корпусным методом, т. е. созданием лингвистических корпусов. Различные фундаментальные проблемы в науке о языке с недавнего времени обсуждаются с привлечением такого эффективного и полезного инструмента, как корпус языка [6, 6 ]. Кроме того, с помощью этого инструмента повышается скорость обработки языковых данных, что позволяет исследователям делать выбор в пользу языковых корпусов. Быстрый доступ к языковым материалам, выявление определенных грамматических категорий, классификация текстов по диалектам – всё это предоставляет большие возможности для оптимального поиска необходимых данных.
Открытый корпус карельского и вепсского языков2 (далее – Корпус) ведет свою историю с 2009 г., когда доктор филологических наук Н. Г. Зайцева начала работу над Корпусом вепсского языка. В связи с тем что задачи по сохранению и популяризации карельского и вепсского языков идентичны, в 2016 г. сотрудники Карельского научного центра РАН приступили к созданию на базе вепсского многоязычного корпуса. Так Открытый корпус вепсского и карельского языков стал продолжением Корпуса вепсского языка. Данные электронные ресурсы включают как образцы вепсской и карельской диалектной речи, так и младописьменные тексты разного содержания: этнографического, фольклорного, литературно-художественного, переводного [3, 378 ].
PHILOLOGY
Открытый корпус вепсского и карельского языков является многоязычным полнотекстовым лингвистическим корпусом и содержит морфологическую, семантическую и метатекстовую разметку3. Он состоит из подкорпусов, выделение которых базируется на двух параметрах, а именно: языковой и стилистической принадлежности текста [1, 101 ]. Развитая система поиска текстов с фильтрацией по языковой принадлежности, информанту, месту сбора и году записи позволяет исследователю более качественно систематизировать изучаемый материал.
Корпус делится на языки и наречия, в нем в достаточном объеме представлены все диалекты вепсского языка. Собственно диалектные тексты составляют основу Корпуса. Их источником послужили экспедиционные записи исследователей-вепсологов Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН (ИЯЛИ КарНЦ РАН), хранящиеся в Фонограммархиве Института. Все диалектные тексты, представленные в Корпусе, характеризуются ограниченным по времени записи периодом: самые старые отмечены 1918 г., но основной их массив приходится на 1960-е гг. Это обусловлено тем, что в 1969 г. вышел сборник диалектных текстов «Образцы вепсской речи»4, материалы из которого опубликованы в Корпусе. В Корпус регулярно вносятся новые тексты различных жанров и диалектов, однако в силу ограниченных исполнительских ресурсов на сегодняшний день в нем представлена лишь часть неопубликованных материалов, хранящихся в Фонограммархиве ИЯЛИ КарНЦ РАН. Например, отсутствуют, в связи с определенными административными сложностями, тексты из образцов вепсской речи иностранных исследователей. Несмотря на это, диалектные вепсские материалы Корпуса являются репрезентативными и помогают выполнить поставленные перед автором задачи.
(ryi ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
На момент настоящего исследования в Корпусе насчитывалось 340 диалектных текстов на вепсском языке, среди которых 44 северновепсских (Залесье – 7, Каскес-ручей – 6, Рыбрека – 1, Шелтозеро и входящие в него деревни – 12, Гимрека – 3, Шокша – 6), 57 южновепсских (Белое Озеро – 6, Боброзеро – 1, Керчаково – 1, Корт-лахта – 3, Прокушево – 4, Радогощь – 2, Сидорово – 37, Федорова Гора – 4), 117 средневепсских восточных (Вахтозеро (Бабаевский район, Vahtkär’) – 4, Войлах-та – 8, Кривозеро – 5, Куя – 13, Ошта – 5, Пондала – 62, Пяжозеро – 2, Сяргозеро – 1, Торосозеро – 1, Шатозеро – 2, Шимозе-ро – 14), 122 средневепсских западных (Каргиничи – 5, Кекозеро – 4, Курба – 1, Ладва – 46, Немжа – 3, Ниргиничи – 1, Озёра – 36, Пелдуши – 18, Подовинники – 1, Сарозеро – 1, Чикозеро – 1, Ярославичи – 2).
Все диалектные тексты делятся на две основные категории: фольклор (сказки, причитания, заговоры, песенки, частушки) и бытовые рассказы. Это позволяет проследить влияние жанра на употребление и синтаксическую функцию I инфинитива. Северновепсские диалектные тексты представлены вепсскими причитаниями, опубликованными в работе “Käte-ške käbedaks kägoihudeks” («Обернись-ка милой кукушечкой»)5 и записанными Р. П. Лониным, сказками, опубликованными в сборнике «Вепсские народные сказки»6, бытовыми рассказами из этнографического фильма Л. В. Чирковой «В чистой воде рыба клюет» (2014) и расшифрованными записями из Фонограмм-архива ИЯЛИ КарНЦ РАН.
Основной массив южновепсских текстов состоит из записей, опубликованных в Образцах вепсской речи, сборниках вепсских причитаний и сказок, а также из полевых записей О. Ю. Жуковой.
В основе записей средневепсских восточного и западного диалектов также лежат опубликованные в Образцах вепсской речи тексты, вепсские причитания, записи из Фонограммархива ИЯЛИ КарНЦ РАН, а также расшифровка личных записей исследователей.
Статистика показывает, что северно- и южновепсских текстов в корпусе меньше, чем средневепсских. Это вызвано несколькими факторами: в опубликованных отечественных Образцах вепсской речи нет северновепсских текстов, а южновепсский диалект представлен не так активно, в силу того что на момент создания сборника южновепсских записей в Фонограммархиве ИЯЛИ КарНЦ РАН было немного7.
Помимо диалектных текстов, в Корпус внесены тексты, относящиеся к другим подкорпусам, а именно: библейские тексты, право, публицистические тексты, к которым относятся статьи из периодических изданий издательства «Периодика» (вепсскоязычная газета “Kodima” («Родная земля»), альманах “Verez Tullei” («Свежий ветер») и детский журнал “Ki-pinä” («Искорка»)), фольклорные тексты, в том числе переводы текстов различных фольклорных жанров на вепсский язык, художественные тексты, представленные в основном младописьменным языком, а также субтитры к фильмам и передачам на вепсском языке, подготовленные сотрудниками национальной редакции ГТРК «Карелия». Корпус регулярно пополняется материалами по соглашению с издательствами и авторами текстов. Кроме того, неисчерпаемым ресурсом является Научный архив КарНЦ РАН.
Обзор литературы
В статье предпринята попытка проанализировать случаи использования I инфинитива на основе диалектных материалов Открытого корпуса вепсского и карельского языков. Являясь наиболее употребительной и продуктивной, форма I инфинитива вызывает постоянный исследовательский интерес. Попытки опи- сать и проанализировать инфинитивные формы в вепсском языке предпринимали российские и зарубежные ученые прошлых лет и современности. Особо стоит отметить труды финского исследователя вепсских диалектов Л. Кеттунена, подробно описавшего синтаксические конструкции вепсского языка в соответствии с логико-синтаксическим методом8 [10]. Инфинитивные конструкции с точки зрения синтаксиса вепсского языка рассматривает современный финский ученый Р. Грюнталь [9].
Среди отечественных исследований, в которых содержится анализ инфинитивных форм вепсского языка, нужно упомянуть труды Н. Г. Зайцевой, и в первую очередь «Грамматику вепсского языка», где представлена полная грамматическая система вепсского языка от словообразования до синтаксиса9. Полипредикативным конструкциям с инфинитивами посвящена работа Г. П. Ивановой [5].
В данной статье форма I инфинитива и ее синтаксические функции рассматриваются на основе материалов Корпуса вепсского и карельского языков. Применение метода корпусной лингвистики на примере Национального корпуса русского языка раскрыто В. А. Плунгяном [6; 7]. Особенности прибалтийско-финской корпусной лингвистики подробно описаны разработчиками и создателями Корпуса [1; 4].
Материалы и методы
В статье предпринимается попытка проанализировать продуктивность употребления инфинитивных форм в диалектах вепсского языка в зависимости от их синтаксической функции. Возможности, заложенные в аналитическом аппарате Корпуса, способствуют ее осуществлению. Для этого используется система лексико-грамматического поиска, доступного в Корпусе. К анализу привлекаются только диалектные тексты Корпуса, среди которых 44 северновепсских, 57 южновепсских, 117 средневепсских восточных и 122 средневепсских западных. Морфологическая разметка, которая указывает
PHILOLOGY часть речи и морфологические признаки каждой леммы, находящейся в тексте, позволяет исследователю при применении лексико-грамматического поиска ввести необходимые параметры, такие как язык, диалект, часть речи и ее грамматические признаки, и получить необходимый результат, а именно: список текстов и количество запрашиваемых форм, встретившихся в текстах. Таким образом возможно определить количество текстов и инфинитивных форм в них, а также отследить статистику их употребления.
Открытый корпус вепсского и карельского языков представляет собой богатый источник для изучения вепсского языкового материала. В нем присутствует значительная диалектная база, которая, несмотря на необходимость ее постоянного пополнения, является ценной и репрезентативной для исследователя и совместно с ручной обработкой позволяет описать картину использования I инфинитива в вепсском языке с точки зрения его синтаксической роли.
Самым важным фактором при создании языковых корпусов является разметка. Хорошая разметка позволяет быстро и эффективно найти в них те конструкции, которые нужны исследователю [7, 8 ]. Несмотря на то что более 73 % текстов Корпуса размечены автоматически [1, 110 ], в процессе работы возникает необходимость прибегнуть к ручной разметке, обусловленная наличием случаев омонимии. Например, результат поиска выдает определенное количество предложений с использованием I инфинитива sada ‘получать’; в то же время в выборку попадают предложения, где sada является количественным числительным и имеет значение ‘сто’. Сюда же можно отнести случаи омонимии инфинитивов возвратных глаголов и пассивной формы глагола, в частности
(ryi ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ tehtas ‘становиться’ и tehtas ‘делают’. Для таких случаев автоматическая система предлагает эксперту несколько значений и набор грамматических признаков, нужный из которых выбирается вручную. В связи с этим во время проведения данного исследования параллельно выполнялась задача по ручному снятию омонимии в Корпусе, что в итоге привело к более точному результату лексико-грамматического поиска.
На основании анализа употребления форм I инфинитива в каждом предложении и подсчета случаев использования инфинитива в той или иной синтаксической роли получена статистика употребления инфинитивов по их синтаксической роли.
Результаты исследования и их обсуждение
Форма I инфинитива является самой распространенной инфинитивной формой в вепсском языке, поэтому она представлена в большом количестве текстов, имеющихся в Корпусе. Благодаря системе лексико-грамматического поиска было выявлено, что форма I инфинитива присутствует в 88 % северновепсских текстов (39 текстов и 356 инфинитивов), 60 % южновепсских (35 текстов и 147 инфинитивов), 69 % средневепсских восточных (81 текст и 454 инфинитива) и 81 % средневепсских западных (100 текстов и 593 инфинитива).
Статистика свидетельствует о том, что форма I инфинитива востребована в языке и частотность ее употребления во всех диалектах вепсского языка примерно одинакова. В зависимости от синтаксической функции инфинитива в составе инфинитивной конструкции выделяются несколько основных групп. Далее приведены случаи употребления I инфинитива в вепсском языке в связи с его синтаксической ролью.
I инфинитив в роли субъекта
В роли субъекта форма I инфинитива выступает довольно часто в конструкциях в связке с глаголами долженствования pidab , tariž , tarbiž ‘нужно’. Эта группа является самой распространенной.
В представленных текстах встретилось 76 северновепсских форм (21 % от всех инфинитивных форм), 20 южновепсских (13 %), 118 форм в западновепсском говоре (20 %) и 79 в восточновепсском (17 %):
(сев. вепс.) Keitta pidab , kaik sijad pidab tehta «Варить нужно, всё нужно делать»; Vaise opeta pidab völ kaks’ poigad «Только выучить нужно ещё двух сыновей»;
(юж. вепс.) A mä penemb ženihud, tarbi vou libuda , barbheižil’ libuda «А я меньше жениха, нужно ещё подняться, на цыпочки подняться»; Hän vou nor’, tarbiž ouda kodiš «Она ещё молодая, нужно быть дома»;
(вост. вепс.) Ičezo-se kaik gö tariž üižüu statg’au rata «Своё-то всё нужно уже ночью делать»; Kinktemba tariž kingitada kolodaha «Выше нужно прикрепить к колоде»; Nu neco d’ojočkaine tariž mihelo otta «Ну эту девочку нужно замуж выдавать»;
(зап. вепс.) Tuled, ka mitte-ni kül’bet’ tariž zavot’t’a «Придёшь, и какую-то баню надо начать»; Minei kodihe oliž lähtta da rata tariž «Мне домой было бы идти и работать нужно».
В последнем предложении употреблена интересная форма, где конструкция долженствования с условным значением выражена глаголом olda ‘быть’ в форме кон-диционала в сочетании с глаголом в форме I инфинитива minei oliž lähtta ‘букв.: мне было бы идти’, т. е. ‘надо бы идти’. Предложение Mijak ii mindain oliž panda carikš «Почему бы меня не поставить царём» напоминает конструкцию долженствования в финском языке (nesessiivirakenne), где долженствование выражено глаголом olla ‘быть’ в форме 3-го л. ед. ч. и основного глагола в форме первого пассивного причастия olisi oltava ‘нужно бы быть’. Такая конструкция встречается и в других вепсских говорах: (сев. вепс.) Čikuško, oliž naida «Сестричка, надо бы жениться»; radnik mini tari oliž «работник мне был бы нужен»; (юж. вепс.) Tari hot’ vedaada oliž bokha «Нужно бы хоть отвести в бок».
В процессе анализа учитывались также предложения, где форма глаголов долженствования tarbiž, pidab опускается и становится ясна лишь из контекста. С одной стороны, это можно объяснить тенденцией к сокращению, свойствен- ной разговорной речи. Подобные конструкции бытуют и в финских говорах. С другой стороны, здесь, безусловно, сказывается влияние русского языка, для которого такое явление обычно. Например, в западном и восточном говорах широко представлены варианты употребления этой конструкции в бытовых рассказах, где информант повествует о традиционных занятиях в таких областях, как ведение сельского хозяйства, сенокос, животноводство, ремесло, проведение обрядов жизненного цикла и т. д.:
(зап. вепс.) Jäl’ghe užinad soglasišoi konz svadib ( tarbiž ) tehta «После ужина договаривались, когда свадьбу (нужно) делать»; Ladvas sigä loukanno siižui mugoi pres, ku dambaha kaik sidotud käčud panda, pre-suida, jäl’ges varastada konz mašin tuleb «В Ладве там у магазина стоял такой пресс, в который все связанные käčud (нужно) положить, спрессовать, после подождать, когда машина приедет»; Purnuspei otamei, konz touknat tehta «А из закрома берём, когда толокно (надо) делать»;
(вост. вепс.) Naku nece sijaine aid püudos tehta sniiž «Вот этот забор в поле (нужно) сделать тебе»; Mida nügutte zavot't'a , kut elada ? «Что теперь (нужно) делать, как жить?»; Viž virstad ajada mijoupei pagastale-se «Пять вёрст (нужно) ехать от нас до погоста».
Реже в роли субъекта I инфинитив выступает в типичной для прибалтийско-финских языков предикативной конструкции om hüvä tehta ‘хорошо делать’, представленной глаголом olda ‘быть’ в форме 3-го л. ед. ч., прилагательным, описывающим действие, и субъектным инфинитивом, выражающим само действие.
В северновепсском говоре встретился только один случай использования данной формы, в южновепсском – ни одного. В западном и восточном говорах средневепсского диалекта данная форма представлена несколько большим количеством случаев, 2 и 6 % соответственно: (сев. вепс.) Siga om läm’ magata «Там тепло спать»; (зап. вепс.) Čoma diki kudoda om «Очень красиво вязать»; Nügüde düvja om eläda, ka vanh olen «Сейчас хорошо жить, да я старый»; Houg’ löumäi om leta ongeragou «Щуку тяжело поднимать удочкой»; (вост. вепс.) Poikusid’me [om] kebjemb turutada «По перекладине легче катать». В последнем примере произошла редукция глагола-сказуемого om.
Вепсский язык, будучи языком коренного малочисленного народа Российской Федерации, требует особого внимания в плане его сохранения, популяризации, а также изучения различных грамматических категорий, в том числе инфинитивов. Инфинитивы выступают важной грамматической категорией с точки зрения морфологии и синтаксиса, а также семантики, которая позволяет выявить особенности языковой картины мира народа.
Статистика, основанная на данных Корпуса, показала довольно скромный результат употребления I инфинитива в роли субъекта в предикативной конструкции. Анализ широкого круга источников, в частности образцов речи, изданных в предшествующие годы в Финляндии, свидетельствует о его более устойчивых позициях в языке. Видимо, последующее насыщение Корпуса диалектными материалами позволит скорректировать результат.
I инфинитив в роли объекта
I инфинитив довольно часто выступает в роли объекта предложения вместе с группой глаголов, с которыми он образует подчинительную связь. В основном это переходные глаголы antta ‘давать’, käskta ‘приказывать’, eht’t’a ‘успевать’, zavot’t’a ‘начинать’, jätta ‘оставлять’, tahtoida ‘хотеть’ и др.
В северновепсском говоре встретилось 15 % случаев употребления I инфинитива с глаголами данной группы: Ankat tö mili tägä voikta «Дайте вы мне здесь поплакать» ; Poigad, pidab opetaze venäks pagišta «Сыновья, нужно учиться по-русски разговаривать»; Ehtned sada mindei, mina liineškanden eläb, ed ethne tabata mindei, mina petl’ha män «Успеешь догнать меня,
(ryi ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ я буду жива, не успеешь поймать меня, я в петлю пойду»; Laps’ magatta I dättihe «Ребёнка спать и оставили».
В южновепсском говоре доля конструкций, где инфинитив выполняет роль объекта, составила 6 % от общего количества инфинитивных форм: Hm, da andame mä sine seda «Хм, так я и дамся тебе съесть»; Jagi-baba satoi pert’he da käskob nän’koita i bajutada «Баба-яга проводила до дома и приказывает нянчить и баюкать»; Ema i dumai, ehtimaa vou ostta i lat’t’a «Я и не думаю, успею ещё купить и наладить».
Инфинитивный объект представлен 13 % от всего количества инфинитивных конструкций в западновепсском говоре и 11 % – в восточновепсском: (зап. вепс.) Andoiba knigad lukt’a «Дали книгу прочитать»; Minä zavodin tehta sömäd, pirgad da munaričan «Я начал готовить еду, пирог и яичницу»; Nügude nel’l’ kud anttas guleida «Теперь четыре месяца дают гулять»; (вост. вепс.) Hvatib sügüzoks samijaks, vu jäb, ii ehti palada «Хватит до самой осени, не успеет сгореть»; Kaikid’-se en rohtn’u kerata «Всех-то не осмелился собрать»; semendan liiban, kazvab, zavodid’ rahnda «посею хлеб, вырастет, начнёшь жать».
Наиболее распространенный тип глаголов, с которыми форма I инфинитива выступает в роли объекта, – модальные глаголы возможности действия sada ‘мочь’, mahtta ‘уметь’, voida ‘мочь’ и т. д.
В северновепсском диалекте выявлено 25 % подобных конструкций: Ken mahtab d’agada ? «Кто умеет делить?»; min-že voin pän čapta ? «как же я могу голову отрубить?».
В южновепсском диалекте – 19 %: I nügüt’ oma mamšid’ mahtaba ugovorida i purendas «И сейчас есть женщины, которые могут заговорить от укуса»; Mii eme voiliima i dumaida i smet’t’a «Мы не могли подумать и понять».
В западно- и восточновепсском говорах – по 17 %: (зап. вепс.) ii voi vedada nikut «никак не может тянуть», a tohespäi mah-tad - ik mida-ni kuvata ? «а из бересты умеешь ли что-нибудь плести?»; (вост. вепс.) voiž keskhe lämeižen panda «можно бы и посреди огня положить»; žar päzub, ka eläda ei sa «жара настанет, то жить нельзя».
I инфинитив в роли атрибута
Реже в Корпусе встречаются конструкции, в которых инфинитив выполняет атрибутивную функцию, т. е. выступает в роли определения. Тем не менее они довольно хорошо вписываются в вепсский язык. В северновепсском говоре эти конструкции представлены 1 % от всех инфинитивных конструкций, в южновепсском – 2, в западновепсском и восточновепсском – соответственно 2 и 3 %. В целом это говорит о равномерном употреблении инфинитива в качестве атрибута по диалектным ареалам вепсского языка.
Чаще всего в такой конструкции в качестве определяемого слова выступает существительное в номинативе или партитиве в связке с формой I инфинитива, который описывает существительное с точки зрения его действия. Нередко в качестве существительного встречаются слова affat ‘охота (в смысле ‘желание’)’, aig ‘время’, taht ‘желание’, mel’ ‘мысль’. Такие конструкции можно считать устойчивыми: (сев. вепс.) Iilä offot ištta , iilä offot gul’aida «Нет охоты сидеть, нет охоты гулять»; Eilä ohvot tulda ? «Есть ли охота прийти?»; (юж. вепс.) Mel’hištimooiš, mehele affat mända , a hälle affat naida «Влюбились, замуж охота выйти, а ему жениться охота»; (вост. вепс.) Aig tegese naida «Время настаёт жениться»; vändon norile priheižile keiken eigan ofot ostta «игру молодым парням всё время охота купить»; ka naita tegihe mel’ «жениться захотелость»; (зап. вепс.) Mil’ taht voib sihe tulda «У нас желание, может, туда пойти»; Kaikile väta ofot teg’hez’ ope-tas «Всем захотелось научиться играть».
I инфинитив в роли обстоятельства (адвербиала)
В роли определяемого существительного может быть и любое другое, в таком случае инфинитив можно рассматривать как адвербиал, или обстоятельство причины. Но иногда ситуация с определением синтаксической функции инфинитива остается спорной, всё зависит от поставленного вопроса и контекста сказанного: (юж. вепс.) Taigin oli vuu sotkta «Тесто еще было месить» (тесто какое или тесто для чего?). Как уже отмечалось [13, 155; 15, 283], в некоторых случаях синтаксическую функцию инфинитива определяет именно его семантическое значение: (зап. вепс.) leibäd söda «не было хлеба есть» (хлеба какого или хлеба для чего?); Nu magata ka nimittušt’ pertišt’ iilend «Ну спать-то никакого домика не было» (домика какого или домика для чего?), Minai tämbei päč löda «У меня сегодня печь делать» (печь какая или печь для чего?); (вост. вепс.) Tämbai sinun očered’ om kolot’t’a «Сегодня твоя очередь колоть»; Tämbai ii müu olo opeta «Сегодня нет у нас состояния учить».
Конструкции, где I инфинитив выступает в качестве обстоятельства, выражающего причину, намерение или цель действия, или имеющего финальное значение, встречаются в Корпусе в следующем количестве: 2 % в северновепсском говоре, 7 – в южновепсском, 4 – в восточновепсском и 2 % в западновепсском. Здесь учитывались предложения с подчинительным союзом с финальным значением miše ‘чтобы’, ku ‘если’, а также предложения, где этот союз опущен. Также были учтены конструкции, о которых шла речь в предыдущем пункте:
(сев. вепс.) Mužik oli völ nor’, tütär kazvatada , ka hän ot’t’I nai toižen kerdan «Мужик был ещё молодой, (чтобы) дочь растить, он взял и женился второй раз»; Anda mili luuhut kabita «Дай мне косточку (чтобы) обглодать»; Toukunt tegin söda hänele, I hän kakastui «Толокно я сделал (чтобы) есть ему, и он поперхнулся»; Midani tedad bivalščiniid sanuda ? «Какую-нибудь знаешь бывальщину (чтобы) сказать?»;
(юж. вепс.) Uk tehli horomad vaamheks, ku jagada poig «Старик делал хоромы на-готово, чтобы отселить сына»; Tänavon merežad oliba paratut mugažo, štobi sada i toda jarfhe «В этом году тоже были поставлены мережи, чтобы наловить и принести на озеро»; A vilu vezi roida , ka basiba, lib ugar «А (если) холодную воду бросать, то, говорят, угар будет»; Otin’ lapad, kandan kod’he, basin’, akt -se kirjutada «Взял лапу, отнесу домой, говорю, акт-то (чтобы) написать»;
(вост. вепс.) Tat pokoinik ost’ tinaižen, kodiš valada tohusen «Отец-покойник ку- пил олово (чтобы) дома лить свечи»; Miile söda maidod kandaškanz’ «Нам (чтобы) поесть молока принес»; Ii näguška sirpid čokaita «Не вижу серпа (чтобы) воткнуть»; Anda härkim nolauta «Дай мутовку (чтобы) облизать»; kül’betihe tegem hoz’g’aižed pestakso «делаем в бане мочалки (чтобы) мыться»; Hän andoi länged kahtod kantta «Он дал два хомута (чтобы) нести»;
(зап. вепс.) Prozad kirjutada ka tari ištta stolan taga «Прозу [чтобы] писать, то нужно сидеть за столом»; Kartohkoid’ ištuteliba vähän, vaiše ičele söda «Картофеля посеяли мало, только себе (чтобы) есть».
Набор традиционных методов анализа и получения языковых данных, к которым относятся сбор лингвистического материала, его запись, расшифровка и т. д., дополняется в наше время корпусным методом, т. е. созданием лингвистических корпусов.
Различные фундаментальные проблемы в науке о языке с недавнего времени обсуждаются с привлечением такого эффективного и полезного инструмента, как корпус языка.
Выступая в роли обстоятельства места, форма I инфинитива ставит вопрос дистрибуции формы I инфинитива и ил-лативной формы III инфинитива, особенно когда речь идет о диалектах. Анализ диалектных форм, представленных в Корпусе, указывает на то, что иногда в конструкциях с глаголами движения используется I инфинитив на месте III инфинитива, хотя это противоречит прибалтийско-финским закономерностям. Причиной такой замены является влияние русского языка.
Самое большое количество случаев, где I инфинитив используется вместо иллативной формы III инфинитива, встретилось в северновепсском диалекте – 5 %: Laps’ magatta I dättihe «Ребёнка спать и оставили»; söd’he, död’he, ka magatta verd’he «поели, попили и спать легли»; Hän magatta mäni «Он спать пошёл».
В восточном говоре – 4 %: Käuda kül’betiš pestas ka «Сходить в бане помыться»; Kuna mo veskam moda ? «Туда мы отведём продавать?»; mina en lähtnuiž necida dumad dumeida «я бы не пошёл эту думу думать».
В западном – 1,3 %: Min’a ezmäks openzimoi pagišta vepsäks «Я сначала научился говорить по-вепсски»; Užinan süimei ka jäl’ghe užinad ika magata panese «Ужин съели, да после ужина спать ложиться»; Mända mini kacta «Пойти мне посмотреть».
В южновепсском диалекте подобные случаи в Корпусе не представлены, что вновь объясняется относительно небольшим содержанием в нем диалектных текстов на этом диалекте.
Требует внимания инфинитивная конструкция, зафиксированная в западновепсском говоре и включающая глагол, не имеющий полной парадигмы и совпадающий с потенциалом linda ‘быть, становиться’ в форме 3-го л. ед. ч. ( linneb ), и форму I инфинитива. Значение глагола linda зависит от контекста: в одних случаях он может обозначать любое действие в будущем времени, а в других его значение приближается в возможностному наклонению [2, 261 ]. Глагол linda является потенциальной формой глагола olda ‘быть’ в родственных языках. Это может свидетельствовать о потенциальном значении рассматриваемой конструкции и в вепсском (т. е. ‘придётся’). Иногда форма глагола linda опущена. Чаще всего конструкция бытует в фольклорных текстах (сказках) и текстах причитаний в сочетании с существительным в форме алла-тива ( кому? ): Kut minei linneb kubahtada i likahtada «Как мне будет шевелиться и двигаться»; I kut miile nügud eläda se «И как мне теперь жить-то»; I kut minei linneb mänetada nece «И как мне будет проводить это»; I kutak i mini liineškandeb elaskata i oleskata -se «И как же мне будет жить и существовать»; Liineb näl’gha kolda «Придётся с голоду умереть». Эта конструкция соответствует русской фольклорной формуле, обычной для жанра причитаний, и, видимо, испытала ее влияние.
I инфинитив в составе колоративной конструкции
Особенностью вепсских глаголов речи является употребление их в паре, составляющей глагольный бином, который придает особую динамику и выразительность описанию говорения ( pagišta papatada ‘букв.: разговаривать + балабонить’, lode-ita loglotada ‘букв.: говорить + болтать не умолкая’, pagišta räpätada ‘букв.: говорить + трещать без умолку’, sanuda mäčkahtada ‘букв.: сказать + пришлёпнуть’, sanuda troppahtada ‘букв.: сказать + хлопнуть’ и пр. [3, 385 ]. Эта особенность касается глаголов, не только выражающих речевую деятельность, но и имеющих другие значения. Как видно из примеров, такая конструкция состоит из двух глаголов – так называемого нейтрального, выражающего то или иное действие, и дескриптивного, описательного, колоративного или звукоподражательного, выражающего то же действие, но с более ярким его описанием. В сочетании с нейтральным дескриптивный глагол раскрывает характер его действия, придает действию стилистикоэкспрессивную окраску [3, 386 ]. Дескриптивный глагол в данной конструкции будет находиться в личной форме, а нейтральный – в форме I инфинитива.
А. Рютконен оставил описание прибалтийско-финских конструкций с дескриптивными глаголами: «Глаголы в такой конструкции могут быть в одной форме, а могут быть и в разных, бывает и так, что один из них находится в форме I инфинитива, а другой – в личной, притом нейтральный глагол находится в форме инфинитива, а дескриптивный глагол, раскрывающий обстоятельство действия, имеет личную форму» [12, 90 ]. В прибалтийско-финских языках это прослеживается в северных собственно карельских говорах, а также в вепсском языке. Как показал анализ материалов Корпуса, подобные конструкции являются довольно яркой особенностью вепсского языка и встречаются во всех диалектах и поддиалектах. По данным настоящего исследования, в младописьменной норме они не встречаются вообще или встречаются крайне редко.
При исследовании карельского языка финские лингвисты называли такие конструкции колоративными из-за их близости к фразеологизмам [11, 481 ; 12, 102 ]. Но от фразеологизмов они все-таки отличаются, их сближает лишь нередкое использование дескриптивных глаголов в переносном значении [8, 9 ]. Если говорить о синтаксической роли инфинитива здесь, то он будет являться частью предикативной конструкции или группы предиката [8, 8 ].
На русский язык указанные конструкции не всегда удается дословно перевести. Это связано с тем, что в русском языке для передачи характера действия нейтрального глагола часто используется большое количество глагольных синонимов: бить – шлёпать, бросить - швырнуть, идти - ковылять и т. д. [8, 5 ]. Порядок слов в такой конструкции не является устойчивым, но анализ примеров, найденных с помощью лексико-грамматического поиска, показал, что в основном дескриптивный глагол стоит на первом месте, а за ним следует глагол с нейтральным значением в форме инфинитива (очевидно, традиционная структура конструкции размылась):
(юж. вепс.) A härg händan lend’ da ku purskaadab paskata «А бык хвост поднял и как извергся испражняться»; Budahtoitpa ampta kerdan, toižen «Бахнули (выстрелили) вы раз, другой»;
(сев. вепс.) Miša dö hrappib magata «Миша уже храпит»; Hän ku möst dö rahtiitab antta päha hamarol «Он как снова треснет по голове обухом»; Nece varvei d’o kodihe d’oks’ tulda edel heid «Эта Варвой уже побежала домой перед ними»;
(вост. вепс.) Gälo pälo venehuden-se helahtoit’ čuta «Лодочку выбросило на лёд» ( helähtoitta ‘швырнуть’, čuta ‘кидать, бросать’); A vihmda žarip ka, eisa daže stanus spasaidakse nikut «А дождь льёт (жарит), нельзя даже спастись в стане никак»; Toine šlibgutab (бросает) čapta , tol’ko maihutab (машет) čapta «Второй режет (бросая), только режет-помахивает»;
(зап. вепс.) Virzule peskud paned da jorotad pesta lagen (моешь натирая) «В лапоть песку положишь и натираешь пол»; Hän oti, tovarišou oružjan hvati, hloponi ampta toižen kerdan «Он взял, у товарища ружьё схватил, хлопнул (стрельнул) раз-другой»; Potom pigembali kodhe prikatin’ turuda «Потом быстро домой прикатил».
Статистика показала, что в материалах Корпуса I инфинитив в роли предикатива в составе колоративной конструкции представлен 2 % от числа всех форм I инфинитива в восточном диалекте и 1 % – в остальных диалектах. Вероятно, наибольшее количество таких конструкций в средневепсском говоре может быть обусловлено наиболее широко представленным этим диалектом количеством текстов. Одновременно заметна явная нестабильность в облике конструкции, в порядке следования элементов в ней, а также признаки ее разрушения.
Заключение
Поводя итог, можно сделать вывод, что Открытый корпус вепсского и карельского языков представляет собой богатый источник для изучения вепсского языкового материала. В нем присутствует значительная диалектная база, которая, несмотря на необходимость ее постоянного пополнения, является ценной и репрезентативной для исследователя и совместно с ручной обработкой позволяет описать картину использования I инфинитива в вепсском языке с точки зрения его синтаксической роли. Судя по результатам анализа, вепсские диалекты в этом плане едины: для I инфинитива в каждом из них характерны роли субъекта, объекта, атрибута, обстоятельства (адвербиала) и предикатива. При этом продуктивность инфинитивных форм колеблется по диалектам незначительно. Наиболее востребованы функции субъекта в конструкции долженствования и объекта в связке с модальными и переходными глаголами. Видимо, в обоих случаях следует учитывать русское языковое влияние. Оно просматривается и в функционировании некоторых фольклорных конструкций, например в формуле причитаний с глаголом linneb .
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ сев. вепс. – северновепсский диалект юж. вепс. – южновепсский диалект вост. вепс. – восточный говор средневепсского диалекта зап. вепс. – западный говор средневепсского диалекта
Список литературы Особенности функционирования I инфинитива в вепсском языке на основе материалов Открытого корпуса вепсского и карельского языков
- Бойко В. П., Зайцева Н. Г., Крижанов-ская Н. Б., Крижановский А. А., Новак И. П., Пеллинен Н. А., Родионова А. П., Трубина Е. Д. Лингвистический корпус ВепКар - «заповедник» прибалтийско-финских языков Карелии // Труды Карельского научного центра Российской академии наук. 2021. № 7. С. 100-115. DOI: 10.17076/Шеш1415.
- Зайцева М. И. Грамматика вепсского языка: (Фонетика и морфология). Л.: Наука: Ленингр. отд-ние, 1981. 360 с.
- Зайцева Н. Г., Жукова О. Ю. «Говорить» по-вепсски: именования некоторых глаголов речи в языке вепсов (лингвогеографиче-ский и семантико-этимологический аспекты) // Ежегодник финно-угорских исследований. 2021. Т. 15, № 3. С. 376-388. DOI: 10.35634/2224-9443-2021-15-3-376-388.
- Зайцева Н. Г., Крижановская Н. Б. Корпусная лингвистика в прибалтийско-финском исследовательском пространстве (на материале Корпуса вепсского языка и Открытого корпуса вепсского и карельского языков) // Альманах североевропейских и балтийских исследований. 2018. Вып. 3. С. 264-273. DOI: 10.15393/] 103. art.2018.1062.
- Иванова Г. П. Полипредикативные конструкции с инфинитивами в форме инес-сива в вепсском языке (в сравнении с финским) // Сибирский филологический журнал. 2013. № 3. С. 205-220.
- Плунгян В. А. Зачем нужен Национальный корпус русского языка? Неформальное введение // Национальный корпус русского языка: 2003-2005. Результаты и перспективы. М., 2005. С. 6-20.
- Плунгян В. А. Корпус как инструмент и как идеология: о некоторых уроках современной корпусной лингвистики // Русский язык в научном освещении. 2008. № 16. С. 7-20.
- Федотова В. П. Дескриптивные глаголы в карельском языке. Петрозаводск: Периодика, 2002. 165 с.
- Grunthal R. Vepsân kielioppi. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, 2015. 347 s.
- Kettunen L. Nâytteitâ etelâvepsâstâ. Helsinki: SKS, 1926. 146 s.
- Penttilâ A. Suomen kielioppi. Porvoo: Helsinki: WSOY, 1957. 692 s.
- Rytkonen A. Deskriptiivisistâ sanoista // Virittajâ, 1935. Vol. 39. S. 90-102.
- Saukkonen P. Itâmerensuomalaisten Kielten tulosijainfinitiivirakenteiden. Historiaa 1: Johdanto, adverbaali infinitiivi. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, 1965. 275 s. (Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia -Mémoires de la Société Finno-Ougrienne; 137).
- Setâlâ E., Kala J. Nâytteitâ âânis- ja keskivepsân murteista. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, 1951. 483 s. (Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia - Mémoires de la Société Finno-Ougrienne; 100).
- Savijârvi I. "Kirves on tyokalu hakata puita". Havaintoja ensimmâisen infinitiivin lyhemmân muodon kâytosta // Virittâjâ. 1971. Vol. 75, no. 3. S. 280-296.
- Sovijârvi A., Peltola R. Àânisvepsân nâytteitâ. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, 1982. 171 s.