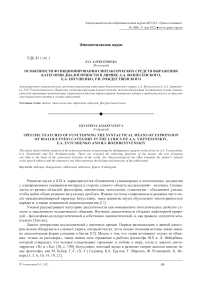Особенности функционирования синтаксических средств выражения категории диалогичности в лирике А.А. Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Р.И. Рождественского
Автор: Алексенцева Екатерина Олеговна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 3 (80), 2022 года.
Бесплатный доступ
Анализируются синтаксические средства выражения категории диалогичности в лирике А.А. Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Р.И. Рождественского. Выявлены следующие функции данных средств: текстообразующая (составляют основу синтаксической структуры произведения), характерологическая (транслируют отношение автора к предмету речи) и экспрессивная (выражают чувства и эмоции адресанта).
Диалог, диалогичность, адресант, адресат, фигуры диалогизма
Короткий адрес: https://sciup.org/148324666
IDR: 148324666 | УДК: 811.161.1
Текст научной статьи Особенности функционирования синтаксических средств выражения категории диалогичности в лирике А.А. Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Р.И. Рождественского
Развитие науки в XXI в. характеризуется сближением гуманитарных и естественных дисциплин с одновременным смещением интереса в сторону единого объекта исследований - человека. Специалисты из разных областей: философии, лингвистики, психологии, социологии – объединяют усилия, чтобы найти общее решение актуальных проблем. Именно поэтому современные изыскания часто носят междисциплинарный характер. Безусловно, такое развитие науки обусловлено многогранностью парадигм, а также доминантой антропоцентризма [17].
Ученые рассматривают категорию диалогичности как имманентное онтологическое свойство устного и письменного человеческого общения. Изучение диалогичности обладает амфотерной природой - философско-культурологической и собственно лингвистической, и, как правило, изучается комплексно [Там же].
Диалог интересовал исследователей с античных времен. Первые размышления о данной категории можно обнаружить в учении Сократа, который считал, что в основе познания истины лежит именно диалогическая форма сознания и бытия [15]. Мысль о том, что «идеи возникают только из общения, только из разговора», также нашла свое отражение в работах философа XIX в. Л. Фейербаха, который утверждал, что человек олицетворяет гармонию и любовь к миру, когда в диалоге синтезируются «Я» и «Ты» [18, с. 190]. Безусловно, весомый вклад в развитие теории диалога внесли такие философы, как М. Бубер, Г.-Г. (Х.-Г.) Гадамер, Б.А. Ерунов, Г. Марсель, Ф. Розенцвейг, К. Ясперс [3, 5, 6, 10, 14, 19, 21].
Особую ценность представляют работы М.М. Бахтина, в которых диалог рассматривается с позиции философии, литературоведения и лингвистики. По мнению исследователя, мир создается из множества «неслиянных голосов». М.М. Бахтин подчеркивает: «Быть – значит общаться диалогически. Когда диалог кончается, все кончается» [1, с. 45]. Таким образом, диалогичен по своей сути не только процесс коммуникации между людьми, но и мышление, познание. Следовательно, любое словесное произведение можно считать диалогическим, т. к. оно всегда имеет своего адресата и является неотъемлемой частью речевой сферы [2, с. 247, 296].
В начале XXI в. теория диалога продолжает активно развиваться, о чем свидетельствуют труды Л.Р. Дускаевой, М.Н. Кожиной, Г.М. Кучинского, Дж. Суэйлза, К. Хайланда [8, 11, 13, 20, 22]. Для данной работы важным оказывается вывод Л.Р. Дускаевой о том, что диалогичность в настоящее время понимается как базовое свойство речи в целом, которое является речевой реализацией коммуникативной и познавательной функции языка. Наиболее заметной она становится непосредственно в диалоге как форме речи, но достаточно легко эксплицируется и в монологе [7].
М.Н. Кожина под категорией диалогичности понимает ориентированность речи на адресата, учет его реакции в сообщении и фиксация данной направленности посредствам определенных языковых единиц [11]. В данной работе мы придерживаемся этого определения.
Сущность языка поэзии монологична. Тем не менее, невозможно не заметить широкое проникновение компонентов диалога в лирические произведения А.А. Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Р.И. Рождественского [4, 9, 16].
Категория диалогичности обнаруживает себя на разных уровнях языка, прежде всего лексическом, морфологическом, синтаксическом. Объектом нашего исследования являются синтаксические средства выражения категории диалогичности в поэтической речи. В качестве предмета изучения выступают синтаксические средства выражения категории диалогичности в поэтических текстах А.А. Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Р.И. Рождественского [4, 9, 16].
Анализ синтаксического строя языка поэзии изучаемых авторов позволяет обнаружить обширный пласт элементов диалогической речи и конструкций прямой речи. Многофункциональность синтаксических компонентов диалога в лирическом тексте близка той, которая более характерна для диалога в художественной прозе. Однако объем лирического текста предполагает более тщательный отбор средств, в связи с этим возрастает стилистическая значимость каждого отдельно взятого синтаксического элемента. Безусловно, необходимо также учитывать подчиненность данных элементов поэтическим законам.
Стихотворение Р.И. Рождественского «– Идут часы…» начинается с реплик диалога (– Идут часы... //- Подумаешь, - //открытье! //Исправны, значит... //Приобрел - //носи... ) [3, с. 82]. Таким образом, автор погружает читателя в разговор с лирическим героем, предполагая ответ адресата. Следующая реплика лирического героя занимает оставшееся пространство стихотворения. Голос адресата больше не слышно, но диалогичность поэтического текста сохраняется благодаря риторическим восклицаниям, которые создают экспрессивность диалогической речи. В середине стихотворения автор использует риторическое обращение ( Часы недлинной жизни человека, // увидите, – // я вас перехитрю! ), создавая образ еще одного адресата. Необходимо отметить, что от характеристики конкретных часов автор переходит к философскому образу времени ( Но час // придёт! // Неотвратимый час. // Наступит он в любое время года // на мысли, // на ленивые мечты. // Наступит час // на сердце и на горло... ) [Там же, c. 82–83].
Нельзя не обратить внимание на стихотворение А.А. Вознесенского «Диалог», в котором ярко выражена текстообразующая функция изучаемой категории: 50 реплик диалога подчинены основным принципам стихосложения, составляют основу текста произведения, определяя его синтаксическую структуру. Важно отметить, что автор называет этот разговор исповедью, больше напоминающей допрос: в первой реплике, адресант уточняет своего рода социальный статус адресата (– Итак, // в прошедшем поэт, в настоящем просящий суда, //свидетель себя и мира в 60-е года?), далее следует череда вопросно-ответных реплик [1, с. 254-256]. Особое эмоциональное напряжение подчерки- вает обилие риторических восклицаний и вопросов в предпоследней строфе (– Итак, продолжаете эксперимент? Айда! // Обрыдла мне исповедь, // Вы – сумасшедший, лжеидол, балда, паразит! // Идете витийствовать? зло поразить? иль простить? // Так в чем же есть истина? В «да» или в «нет»?) [1, с. 254–256].
В произведении «Засуха» Р.И. Рождественского диалогические элементы также выполняют текстообразующую функцию : реплика в этом стихотворении является ведущим элементом синтаксической структуры всего текста (каждая строфа является репликой диалога). Интересно, что разговор между собеседниками носит поверхностный характер, потому что адресат неверно декодирует сообщение адресанта, который просит развеселить, придумать сказку с радостным концом [3, с. 128–129]. В ответ адресат рассуждает о жаре и засухе [Там же]. Несмотря на недопонимание между коммуникантами, поэтический текст носит подчеркнуто диалогический характер. Безусловно, маркерами диалогичности в стихотворении также становятся риторические восклицания ( Сумасшедшая жарынь! Развесели!) , эллиптичность предложений (Да не о том ты! Вовсе не о том!) , обращение (друг) [Там же].
Диалогичность стихотворения «Рассказ директора районной конторы “Заготзерно”» Р.И. Рождественского формируется при участии прямой речи («Погибель // растет моя…», «Растите, хлеба! // Наливайтесь, хлеба! // Но только // куда ж я вас дену?..», «Вы // с работы…// уволены… // Развал у вас непростительный™ // Сдайте дела // заместителю™») [3, с. 129-133] . Лирический герой вступает в беседу с читателем, рассказывая «по-свойски» о трудностях своей работы. Вставки прямой речи передают мысли лирического героя и слова третьих лиц ( «ответственного», заместителя ) [Там же] . Нельзя не отметить обилие риторических восклицаний ( Вот уж действительно // дело труба! Умолял! // Угрожал!! И в грохоте, // в ливнях // сплошным навалом // идет // на меня // урожаище!!), эллиптические предложения (Я – к заму. И – началось!! Смирнову – письма, Смирнову – зарплата…) [Там же] .
В «Балладе о выпивке» Е.А. Евтушенко рассказывает читателю, как старому товарищу, историю из своей жизни. Прямая речь здесь наполнена разговорными и просторечными элементами, эмоциональность усиливается благодаря нетипичным для письменной речи способам ввода в текст (все загудели; отметил кэп; и только боцман всхлипнул детски!) [2, с. 143–146]. Особого внимания заслуживают яркие риторические восклицания (грудь навыкат! / Ща! / есть! порядок!) и вопросноответные конструкции (Ну кто наш спирт и водку выпил? // И пьют же люди – просто гибель… / А кто мы есть? Морские волки!) [Там же]. Такие элементы диалога, транслируя читателю положительную оценку участников описываемых событий, выполняют важную для лирического жанра характерологическую функции .
В стихотворении «Допрос под Брамса» Е.А. Евтушенко идет речь о двух влюбленных, попавших к следователю на допрос. Однако вместо признания в преступлении слуга закона слышит вечное слово «люблю». Примечательно, что в тексте мы находим всего две реплики прямой речи: сначала юноша тихо говорит: «Люблю», затем девушка в ответ произносит то же самое. Так автор синтаксически выделяет слово, важное для понимания замысла всего стихотворения. Сигналами диалогичности в данном примере становятся риторические восклицания (Им Брамс помог! // Им – // а не их врагам!) [2, с. 16–19].
Прямая речь как синтаксическое средство выражения диалогичности нашла свое отражение и в произведении А.А. Вознесенского «Неизвестный - реквием в двух шагах с эпилогом». Перед читателем открывается равнина на тысячи верст, которую утюжит смерть. Лейтенант Неизвестный Эрнст по приказу радиосети идет один в наступление (В атаку взвод не поднять, // но сверху в радиосеть: // «В атаку, – зовут, – твою мать!») [1, 191–193]. Смерть предупреждает отважного Лейтенанта о гибели, стараясь запугать многомиллионным чудовищем, армией, глобальными зверствами (И смерть говорит: «Прочь! // Ты же один как перст. // Против кого ты прешь?// Против громады, Эрнст! // Против – // четырехмиллионопятьсотсорокасемитысячевосемьсотдвадца-титрёхквадратнокилометрового чудища // против, – // против армии, флота, и угарного сброда, против – // культургервышибал, против национал- //социализма, – // против! // Против глобальных зверств. // Ты уже мертв, сопляк»?) [1, с. 191-193]. Высокомерным обращением сопляк А.А. Возне -сенский подчеркивает ничтожность человека. Однако Эрнст не сдается, делает первый шаг и слышит голос Жизни, которая так же, как и Смерть пытается убедить Лейтенанта не идти в бой. Несмотря на то, что Жизнь тоже предупреждает офицера о возможной гибели, она это делает несколько иначе, рассказывая Эрнсту о радостях мирной жизни, о любимой девушке, маме. Жизнь использует в своей речи ласковое обращение Эрик, которое стилистически и семантически противопоставлено обращению сопляк. Финальные строки, содержащие прямую речь лирического героя, адресованную свежевыбритым, подчеркивают главную мысль автора о том, что только люди способны отдавать жизнь (Животные жизнь берут. //Лишь люди жизнь отдают) [Там же]. Таким образом, синтаксические средства выражения категории диалогичности влияют на структурную и семантическую организацию поэтического текста.
К лирическим произведениям, структура и стиль которых формируются при участии прямой речи и диалогических элементов, примыкают и такие произведения, которые содержат только голос лирического героя. Однако синтаксические конструкции, характерные для устной речи, сближают поэтический текст с живым диалогом. Т.Н. Колокольцева полагает, что в поэтической речи синтаксическими средствами выражения категории диалогичности прежде всего становятся такие фигуры, как риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение и вопросно-ответные структуры [12, с. 9].
В стихотворении «Бензиновая колонка» Р.И. Рождественского используются риторические обращения (бензиновая колонка, бензиновая коровка, бензиновая река, бензиновый чародей) , риторические восклицания ( Смотри, // какие блистательные, // со всех четырех сторон // фыркающие создания // спешат к тебе // на поклон! // А может быть, ты – // волшебница, // бензиновый чародей !) [3, с. 206–208]. Именно эти фигуры составляют основу для выражения категории диалогичности в данном поэтическом тексте. Безусловно, нельзя не отметить характерологическую функцию риторических обращений, которые транслируют отличительные черты предмета речи, необходимые для точного понимания авторского замысла. Так, обращение бензиновая коровка выражает ироническое отношение лирического героя к адресату, скрытое сравнение бензиновой колонки с коровой, которая дает бензин вместо молока.
В поэтическом тексте «Туманная улица» А.А. Вознесенского графическое выделение диалога или прямой речи отсутствует, тем не менее диалогичность реализуется благодаря риторическим вопросам , подчеркивающим быстротечность времени (Который век? Которой эры? / Я спотыкаюсь, бьюсь, живу, // туман, туман — не разберешься, // о чью щеку в тумане трешься?..), вопросно-ответным конструкциям (Калоши? //Как бы башкой не обменяться! / Венера? Продавец мороженого!.. // Друзья? // Ох, эти яго доморощенные!) и риторическому обращению (туман, туман) [1, с. 62–63] .
В стихотворении Е.А. Евтушенко «Нет, мне ни в чем не надо половины!», несмотря на отсутствие ответных реплик, лирический герой говорит с жизнью (Нет, жизнь, меня ты не заластишь частью.) [2, с. 49]. В тексте поэт использует риторические восклицания, чтобы подчеркнуть эмоциональность своих требований (Нет, мне ни в чем не надо половины! // Мне – дай все небо! Землю всю положь! // Моря и реки, горные лавины // мои – не соглашаюсь на дележ! / Все полностью! Мне это по плечу! // Я не хочу ни половины счастья, // ни половины горя не хочу!) [Там же].
Диалогичность стихотворения «Вступление» А.А. Вознесенского также связана с синтаксическим устройством текста. Произведение начинается с необычного сочетания эмоционального риторического обращения к Америке (Открывайся, Америка!) и риторического восклицания (Эврика!), которое обычно используют как возглас радости по поводу возникновения новой идеи или мысли [1, с. 99–100]. Маркерами диалогичности в этом примере также становятся вопросно-ответная конструкция, включающая ответ-восклицание (Скромность украшает? // К черту украшательство!), риторический вопрос (Художник хулиганит?), риторическое обращение (Балуй, // Колумб!) [1, с. 99-100]. Неоднозначность последнего обращения подчеркивается незавершенным высказыванием в конце произведения (По наитию // дую к берегу...), таким образом лирический герой обращается к себе, как к открывателю Америки [Там же].
Рассмотрим стихотворение Е. А. Евтушенко «Письмо Жаку Брелю —французскому шансонье». Безусловно, жанр письма всегда носит диалогический характер, так как текст письма обязательно имеет адресата. Риторическое обращение Жак повторяется в произведении четыре раза, поддерживая связь лирического героя и адресата на протяжении всего текста. Невозможно не заметить многочисленные риторические восклицания (Салоны – // не по нам! // Нам площади подайте! // Нам вся земля мала! / Плевать! // Я шансонье – // не тенор из «Ла Скала»!), риторические вопросы (Да, // мы артисты, Жак, // но только ли артисты? / В землю?! / Как в ярости тупел // тот сброд, визжа надорванно?), которые подчеркивают экспрессию диалогической речи [2, с. 11–14].
Подведем итоги. Все проанализированные произведения поэтов-шестидесятников обладают ярко выраженной диалогичностью. Синтаксическими средствами реализации данной категории в поэзии А.А. Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Р.И. Рождественского [4, 9, 16] являются отдельные реплики диалога, прямая речь, риторическое обращение, риторическое восклицание, риторический вопрос, вопросно-ответные структуры, эллиптические конструкции, незавершенные предложения. Все указанные средства отличаются значительной функциональной и семантической нагрузкой, а также являются яркими приметами идиостилей поэтов-шестидесятников (А.А. Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Р.И. Рождественского).
Список литературы Особенности функционирования синтаксических средств выражения категории диалогичности в лирике А.А. Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Р.И. Рождественского
- Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М.: Худ. лит., 1972.
- Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979.
- Бубер М. Я и Ты // Бубер М. Два образа веры: пер. с нем. / под ред. П.С. Гуревича, С.Я. Левит, С.В. Лёзова. М.: Республика, 1995.
- Вознесенский А.А. Стихотворения и поэмы: в 2 т. Т. 1. СПб.: Издательство Пушкинского Дома: Вита Нова, 2015.
- Гадамер Г.-Г. (Х.-Г.). Актуальность прекрасного. М: Искусство, 1991.
- Гадамер Г.-Г. (Х.-Г.). Истина и метод. М.: Прогресс, 1988.
- Дускаева Л.Р. Диалогичность речи // Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под ред. М.Н. Кожиной. М.: Флинта-Наука, 2006.
- Дускаева Л.Р. Диалогичность современных газетных текстов в аспекте речевых жанров. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2004.
- Евтушенко Е.А. Собрание сочинений: в 9 т. Т. 4. М.: Изд-во «Э», 2015.
- Ерунов Б.А. Диалектический диалог и его значение для понимания творческой активности сознания // Творческая активность сознания: межвуз. сб. науч. трудов. Л.: ЛГПИ, 1986.
- Кожина М.Н. Диалогичность как категориальный признак письменного научного текста // Очерки научного стилярусского литературного языка ХVIII–ХХ вв. Т. 2. Стилистика научного текста (общие параметры). Ч. 2. Категории научного текста: функционально-стилистический аспект. Пермь, 1998.
- Колокольцева Т.Н. Диалогичность и интертекстуальность в поэтическом тексте (на материале «Молитвы перед поэмой» Е.А. Евтушенко) // Электрон. науч.-образоват. журнал ВГСПУ «Грани познания». 2015. № 5(39). С. 9–15. [Электронный ресурс]. URL: http://grani.vspu.ru/files/publics/1439732160.pdf (дата обращения: 25.02.2022).
- Кучинский Г.М. Диалог и мышление. Минск: Изд-во БГУ, 1983.
- Марсель Г. Трагическая мудрость философии. Избранные работы. М.: Изд-во гуманитарной литературы, 1995.
- Платон. Собрание сочинений: в 2 т. Т. 2. / Общ. ред. А.Ф. Лосева, В.Ф. Асмуса, А.А. Тахо-Годи; Примеч. А.Ф. Лосева и А.А. Тахо-Годи; Пер. с древнегреч. М.: Мысль, 1993.
- Рождественский Р.И. Собрание стихотворений, песен и поэм в одном томе. М.: Изд-во «Э», 2018.
- Федоров И.Е. Истоки формирования понятия и функциональная специфика категории «диалогичности» // Когнитивно-дискурсивное пространство в современном гуманитарном знании: сб. науч. трудов. Краснодар: Кубан. гос. ун-т, 2019.
- Фейербах Л. Основные положения философии будущего // Избранные философские произведения: в 2 т. Т. 1. М.: Госполитиздат,1955.
- Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.: Политиздат, 1991.
- Hyland K. Academic Discourse: English in a Global Context. Series Title: Continuum Discourse. London: Continuum, 2009.
- Rosenzweig F. The Star of Redemption. Translated by B.E. Galli. Madison: University of Wisconsin Press, 2005.
- Swales J. Genre analysis: English in academic and research settings. Cambridge University Press, 1990.