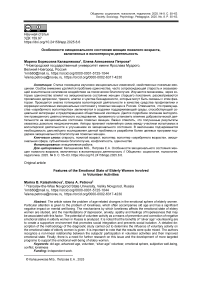Особенности эмоционального состояния женщин пожилого возраста, включенных в волонтерскую деятельность
Автор: Калашникова М.Б., Петрова Е.А.
Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp
Рубрика: Психология
Статья в выпуске: 8, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению эмоциональных изменений, свойственных пожилым женщинам. Особое внимание уделяется проблеме одиночества, часто сопровождающей старость и оказывающей значительное негативное воздействие на психическое благополучие. Изучаются механизмы, через которые одиночество влияет на эмоциональное состояние женщин старшего поколения, рассматриваются проявления депрессии, тревоги, апатии и чувства безнадежности, которые могут быть связаны с этим фактором. Проводится анализ потенциала волонтерской деятельности в качестве средства профилактики и коррекции негативных эмоциональных состояний у пожилых женщин в России. Отмечается, что преимущества «серебряного волонтерства» заключаются в создании поддерживающей среды, способствующей социальной интеграции и предотвращению общественной изоляции. Дается подробное описание методологии проведенного диагностического исследования, призванного установить влияние добровольческой деятельности на эмоциональное состояние пожилых женщин. Важно отметить, что полученные результаты оказались довольно неоднозначными. Авторы признают нелинейную связь между участием испытуемых в волонтерской деятельности и улучшением их эмоционального состояния. В заключение подчеркивается необходимость дальнейшего исследования данной проблемы и разработки более целевых программ поддержки эмоционального благополучия пожилых женщин.
Рость, пожилой возраст, волонтер, волонтер «серебряного возраста», эмоциональная сфера, субъективное благополучие, конфликтность, одиночество
Короткий адрес: https://sciup.org/149149017
IDR: 149149017 | УДК: 159.97 | DOI: 10.24158/spp.2025.8.6
Текст научной статьи Особенности эмоционального состояния женщин пожилого возраста, включенных в волонтерскую деятельность
,
,
Введение . В 2025 г. численность населения России составляет 146 150 789 человек , в том числе пожилых людей от 60 лет – 31 860 872 человека, а долгожителей России старше 80 лет – 2 046 111 человек1. В нашем обществе – огромное число пожилых людей, и решение психологических проблем данной социальной группы является важной и актуальной задачей.
Старость принято определять, как «период возрастного развития организма, заключительный этап онтогенеза, характеризующийся необратимыми существенными изменениями в обмене веществ, структуре и функционировании организма»2. Ее можно рассматривать как биологический, социальный и психологический феномен. В первом случае старость связана со снижением приспособительных функций организма, с повышенной уязвимостью организма. Во втором – предполагает выход на пенсию, изменение социальных ролей, десоциализацию. В третьем – старение сопровождается когнитивными и эмоциональными изменениями.
Таким образом, старость – это процесс перехода к новому функциональному состоянию организма, социальным ролям и межличностным отношениям.
В настоящее время существуют различные классификации этапов старения. Всемирная организация здравоохранения предлагает разделять старость на три этапа: 60–75 лет – пожилой возраст, ранняя старость; 75–90 лет – преклонный возраст, поздняя старость; старше 90 лет – старческий возраст, долгожительство3.
Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 г.4 предлагает иную классификацию по возрасту: граждане с 60 до 64 лет – это достаточно активные в экономическом и социальном плане люди, продолжающие осуществлять трудовую деятельность; граждане с 65 до 80 лет – это, как правило, люди менее активные, многим из которых требуется медицинская помощь и социальные услуги; граждане старше 80 лет – это люди, имеющие множественные проблемы со здоровьем и зачастую нуждающиеся в уходе и помощи. При этом мы считаем, что предложенная градация является довольно условной, так как граждане старшего поколения в любом возрасте могут иметь различные физические и социально-психологические характеристики. Например, быть физически и социально активными или нуждающимися в уходе и помощи, материально обеспеченными или нет, осуществлять трудовую деятельность либо находиться на заслуженном отдыхе, проживать в семье или одному, иметь или не иметь инвалидность. Именно поэтому ученые отмечают неоднозначность данного процесса, его гетерохронность и значительные расхождения в развертывании5.
В процессе нормального, физиологического старения существенно изменяется эмоциональная сфера человека. В последние годы проведено множество исследований по изучению изменений эмоциональной сферы пожилых людей. Например, И.Г. Малкина-Пых6 обнаружила, что существуют возрастные изменения в эмоциональной сфере, такие как: снижение интенсивности негативных эмоций после 65 лет; увеличение эмоциональной нестабильности; повышенная уязвимость к стрессовым событиям. Г.С. Никифоров утверждает, что у «50 % обследованных (практически здоровые люди, средний возраст составляет 72 года) появились ранее не свойственные им состояния грусти, подавленности, мрачные мысли »7 .
Возрастное ухудшение когнитивных функций ведет за собой эмоциональную лабильность и снижение контроля за чувствами. Помимо этого, в старости усиливаются: субъективное ощущение неблагополучия, эмоциональная неустойчивость, конфликтность, тревожность, одиночество. При этом существуют и положительные изменения эмоциональной сферы, например, пожилые люди чаще демонстрируют способность к саморегуляции и развитое эмпатическое понимание.
При наличии положительных моментов эмоциональная сфера пожилых людей в целом претерпевает много болезненных изменений, поэтому в нашем исследовании мы остановимся именно на них.
Переживание чувства одиночества становится одним из наиболее актуальных и тяжелых эмоциональных состояний в старости (Акутина, Столярова, 2021). Д.А. Леонтьев определяет одиночество «как переживание собственной невовлеченности в связи с другими людьми. Это переживание может иметь место как в состоянии физической изоляции, так и в присутствии других людей, но без психологического контакта с ними. В обоих случаях одиночество может быть либо добровольным, выбранным, принятым, либо вынужденным; в последнем случае оно может служить источником серьёзных психологических проблем и нарушений» (Леонтьев, Осин, 2013).
Н.Ф. Шахматов указывал на то, что одиночество в старости – это либо реальное отсутствие родственников, сверстников, друзей, либо ощущение эмоциональной изоляции, непонимание и безразличие со стороны окружающих (Шахматов, 1996).
Эмоциональные проблемы пожилых могут быть связаны с социальным статусом, семейным положением, когнитивными изменениями (Strizhitskaya, 2017). В нашем исследовании, поскольку мы делаем акцент на одиночество, которое называют «злейшим врагом долголетия»1, мы хотим связать эмоциональное состояние пожилых с их социальной активностью. Следовательно, мы считаем, что для позитивного влияния на эмоциональное состояние существует необходимость вовлечения пожилых людей в социальную деятельность, активизации общения, прерывания субъективной изоляции, формирования новых социальных целей. На данный момент существует потребность в новых формах социальной интеграции пожилых и профилактике эмоциональных расстройств в данной группе. Одним из способов решения этой задачи специалисты, работающие с пожилыми людьми, считают включение их в волонтерскую деятельность.
Рассмотрим, что собой представляет волонтерство и как оно закреплено законодательно.
В России добровольческое социальное движение начало оформляться с середины 1990-х гг. Трактовка его закреплена в Федеральном законе № 135–Ф3 от 11.08.1995 (ред. от 28.12.2024) «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»2.
Приказом Федеральной службы государственной статистики от 21.08.2023 № 402 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Федеральным агентством по делам молодежи федерального статистического наблюдения в сфере молодежной политики»3 определена категория волонтеров «серебряного» возраста (геронтоволонтеры) – это волонтеры в возрасте от 55 лет и старше, добровольно и безвозмездно участвующие в деятельности, направленной на решение актуальных социальных, культурных, экономических, экологических проблем в обществе (в том числе касающейся помощи людям, территориям или животным). Для пожилых людей такая деятельность является увлечением, наполнением их социальной жизни. Согласно статистике, волонтеры в возрасте от 55 лет и старше составляют 4 % от общего количества волонтеров4.
В рамках «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.02.2016 № 164-р5, реализуется федеральная программа по развитию «серебряного» волонтерства «Молоды душой». В ее рамках создаются региональные центры «серебряного» волонтерства, реализуются и поддерживаются социальные проекты, обеспечивается обучение волонтеров старшего возраста, а также руководителей добровольческих центров и некоммерческих организаций.
В Новгородской области с 2019 г. ведется работа по созданию системы ресурсных центров по поддержке «серебряного» добровольчества (волонтерства). На сегодняшний день в Великом Новгороде действует несколько таких центров.
Волонтеры ведут активную социальную жизнь, много контактируют с другими людьми, именно поэтому повышение количества социальных контактов видится специалистам как один из способов работы с чувством одиночества пожилых людей. Действительно, волонтерство можно использовать как инструмент для преодоления чувства одиночества, но его эффективность будет зависеть от нескольких ключевых факторов. Позитивные стороны добровольчества в преодолении одиночества заключаются в установлении новых социальных связей, совместная деятельность может формировать общие цели и эмоциональную близость, помощь другим лю- дям создает чувство значимости, профессиональные навыки, полученные при занятии добровольческой деятельностью могут повысить уверенность в себе. Регулярная занятость уменьшает время на излишнюю рефлексию и изоляцию, четкий график дает ощущение стабильности (Кузнецова, Кочина, 2022; Юркина, Гарифуллина, 2022).
При этом существуют ограничения волонтерства как технологии преодоления одиночества. Социальные контакты, которые формируются в процессе подобной деятельности часто поверхностны, взаимодействие ограничивается формальными задачами, глубинные эмоциональные связи не формируются. Интенсивная работа со сложными категориями (например, тяжелобольными) может даже усилить чувство изоляции. Волонтеры – люди с разными ценностями, смыслами, взглядами, из-за этого могут возникать конфликты в команде или разочарование в миссии проекта, что способно усугубить чувство одиночества.
Исследования показывают, что 68 % волонтеров отмечают снижение чувства одиночества только при соблюдении двух условий: регулярности участия (не реже 2 раз в месяц) и наличия неформального, эмоционально окрашенного общения в команде1.
Анализ научных изысканий, отраженных в публикациях последних нескольких лет показал, что:
-
– большинство проведенных на данный момент исследований фокусируется на волонтерах молодого возраста;
-
– только 12 % работ посвящено именно женщинам-волонтерам;
-
– лишь несколько исследований отражает эмоциональные аспекты состояния участников добровольческого движения;
–отсутствуют лонгитюдные данные по российским выборкам волонтеров.
В последние годы начали появляться исследования деятельности «серебрянных волонтеров» (Добровольческая деятельность как ресурс укрепления психического здоровья …, 2023; Кузнецова, Кочина, 2022; Юркина, Гарифуллина, 2022). Но до сих пор отсутствуют работы, связывающие уровень эмоционального благополучия с волонтерской деятельностью пожилых людей.
Чтобы понять, как изменяется эмоциональное состояние пожилых людей, занимающихся волонтерской деятельностью, и снижает ли оно чувство одиночества, мы организовали и провели психологическое исследование. Женщины чаще мужчин вовлекаются в добровольческую деятельность, при этом пожилые женщины старше 60 лет являются одной из самых уязвимых групп в плане эмоционального благополучия, так как именно в этом возрасте происходит уход на пенсию, потеря социальных ролей, снижение уровня доходов. В нашей работе впервые системно исследуется влияние волонтерской деятельности на эмоциональную сферу женщин пожилого возраста (60+).
Целью настоящей работы стало выявление особенностей эмоциональной сферы женщин пожилого возраста, включенных в волонтерскую деятельность.
Основная часть . Исследование проходило на базе автономной некоммерческой организации социального обслуживания населения «Центр социальной поддержки “Добро”» и Добро-центра «Молоды душой» Великого Новгорода и Новгородского района.
Выборка исследования являлась ограниченной, что сократило ее объяснительный потенциал, но мы постарались минимизировать этот факт высоким уровнем однородности (возраст, пол, когнитивный статус). Когнитивный статус проверялся в первичном отборочном интервью. В исследовании приняли участие 30 женщин пожилого возраста от 65 до 70 лет (средний возраст – 69 лет). Все они были разделены на две группы: эмпирическую и контрольную (по 15 человек). В первую были включены волонтеры «серебряного возраста», участвующие в проектах «80 добрых дел к Дню Победы» и «Ты не один» Ресурсного центра «Серебряное волонтёрство» на базе Комплексного центра социального обслуживания (КЦСО) населения Великого Новгорода и Новгородского района. В контрольную группу вошли женщины, не занимающиеся добровольческой деятельностью.
Стаж волонтерской деятельности участниц эмпирической группы:
-
– до 1 года – 28 %;
-
– 1–3 года – 42 %;
-
– более 3 лет – 30 %.
Социально-демографические характеристики участниц двух групп могут быть сведены к следующим: работающие (38 %), неработающие (62 %), проживающие одни (41 %), с родственниками (59 %). В нашем исследовании мы не учитывали социально-демографические характеристики, поскольку основной акцент был сделан на включенности/не включенности субъектов в волонтерскую деятельность.
Мы предположили, что эмоциональная сфера женщин, занимающихся волонтерской деятельностью более стабильна, они меньше подвержены переживанию одиночества и имеют более высокий уровень субъективного благополучия.
Для подтверждения данной гипотезы мы подобрали диагностическую батарею методик на основе проведенного нами теоретического анализа литературы по изучению эмоционального состояния пожилых людей. В ходе диагностического исследования мы поставили задачу изучить различные аспекты эмоциональных состояний, изменения которых закономерно происходят параллельно с процессами старения. На наш взгляд, тревожность, сниженное настроение, депрессивные состояния в современных исследованиях эмоциональной сферы пожилых людей изучены достаточно. Нами были выбраны методики, изучающие субъективное благополучие, позитивный аффект и чувство одиночества, так как мы считаем, что изменение именно этих характеристик может быть взаимосвязано с неформальной социальной активностью (волонтерством) пожилых женщин. Субъективное благополучие отражает и когнитивную, и аффективную оценку жизни. Позитивный аффект является зеркалом наличия таких позитивных эмоциональных состояний, как радость, интерес, вовлеченность. Чувство одиночества показывает субъективное ощущение социальной изоляции. Эти параметры являлись для нас ключевыми характеристиками изучения влияния добровольческой деятельности на эмоциональное состояние пожилых людей.
Для математического подтверждения различий мы использовали критерий Манна – Уитни. При обработке данных применяли пакет статистических программ SPSS 15.0.
Исследование проходило очно и индивидуально. Сначала проводилась вводная беседа-интервью для оценки мотивации участия в исследовании и когнитивного статуса испытуемых, затем им предлагалось прохождение диагностических методик. Последние представлялись участницам исследования последовательно в рамках 1 часовой встречи.
Первыми методиками, предложенными испытуемым двух групп, стали «Шкала субъективного счастья» С. Любомирски и Х. Леппер в адаптации Д.А. Леонтьева и «Шкала субъективного благополучия» Г. Перуэ-Баду в адаптации М.В. Соколовой. Эти тесты измеряют эмоциональное переживание индивидом собственной жизни и отражают общий уровень психологического благополучия. Средние значения оценки субъективного счастья и благополучия участников исследования приведены в табл. 1.
Таблица 1 – Оценка субъективного счастья и благополучия (средние значения) 1
Table 1 – Assessment of Subjective Happiness and Well-Being (Average Values)
|
Показатели |
Эмпирическая группа n = 15 |
Контрольная группа n = 15 |
Значение U-критерия |
|
Субъективное счастье |
21,26 |
19,66 |
90 |
|
Субъективное благополучие |
4,58 |
4,33 |
93,5 |
Примечания . Уровень значимости различий: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,000; оценка по U-критерию Манна – Уитни.
Статистически различия результатов двух групп не выявлены, но качественный анализ данных позволяет сделать вывод, что в группе пожилых людей, занимающихся волонтерской деятельностью, чуть ниже уровень переживаемого субъективного счастья и благополучия.
Таким образом, мы видим, что социально активный образ жизни не влияет на субъективное ощущение счастья и благополучия.
Далее мы предложили участникам исследования для прохождения «Шкалу позитивного и негативного аффекта» (адаптация Е.Н. Осина). При этом высокий уровень позитивного аффекта (ПА) определялся как состояние приятной вовлеченности, высокой энергичности и полной концентрации в противовес унынию и вялости (низкий ПА). Высокий уровень негативного аффекта (НА) – как состояние субъективно переживаемого страдания, неприятной вовлеченности (различной по содержанию – это может быть гнев, отвращение, презрение, вина, страх, раздражительность) в противовес спокойствию и безмятежности (низкий НА).
Средние значения показателей позитивного/негативного аффекта в нашем исследовании приведены в табл. 2.
Таблица 2 – Показатели позитивного/негативного аффекта (средние значения)
Table 2 – Indicators of Positive/Negative Affect (Average Values)
|
Показатели |
Эмпирическая группа n = 15 |
Контрольная группа n = 15 |
Значение U-критерия |
|
Позитивный аффект |
30,66 |
25,60 |
70* |
|
Негативный аффект |
17,33 |
18,33 |
108,5 |
Примечания. Уровень значимости различий: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,000; оценка по U-критерию Манна – Уитни.
-
1 Все таблицы в статье составлены авторами.
Анализ результатов показал, что женщины-волонтеры пожилого возраста имеют большую склонность к переживанию позитивного аффекта, это состояние можно описать триадой «счастливый - энергичный - радостный». В контрольной группе преобладает более слабое переживание позитивного аффекта, у участниц этой группы присутствует триада «беспомощный - напряженный - заторможенный». Склонности к переживанию негативного аффекта и сильных болезненных эмоций в обеих группах не наблюдается.
Следующей методикой, предложенной испытуемым был «Тест на конфликтность» Кноблоха - Фальконетта. Он определяет склонность к внутриличностному конфликту и оценивает данный критерий по двум шкалам:
-
- эгохватание - внутренняя конфликтность личности, склонность к самообвинениям, нерешительности и неуверенности в себе; выраженная потребность в постоянной опеке;
-
- гармоничность - спокойствие, уверенность в себе, сбалансированность желаний, стремлений, уровня притязаний; последовательность поведения.
Средние значения показателей конфликтности участниц нашего исследования приведены в табл. 3.
Таблица 3 – Показатели конфликтности (средние значения)
Table 3 – Conflict Indicators (Average Values)
|
Показатели |
Эмпирическая группа n = 15 |
Контрольная группа n = 15 |
Значение U-критерия |
|
Эгохватание |
7,60 |
9,26 |
68,5* |
|
Гармоничность |
11,73 |
10,73 |
68,5* |
Примечания . Уровень значимости различий: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,000; оценка по U-критерию Манна - Уитни.
Анализ результатов применения методики показал, что средние значения по шкале «эгохватание» у «серебряных волонтеров» ниже, чем в контрольной группе. Участницы эмпирической группы имеют более низкий уровень внутренней конфликтности и личностной неуверенности. Показатель по шкале «Гармоничность» в эмпирической группе выше.
Таким образом, мы можем предположить, что, женщины, занимающиеся волонтерской деятельностью, более склонны испытывать спокойствие, сбалансированность, они демонстрируют уверенность в себе и менее конфликтны.
Проведенные методики наглядно демонстрируют, что женщины, включенные в добровольческую деятельность эмоционально стабильнее, более склонны проживать положительные эмоции, обладают более низким уровнем конфликтности по сравнению с участницами контрольной группы, женщины-волонтеры чувствуют энергию, не испытывают внутренней неуверенности, не нуждаются в постоянной опеке. Мы можем предположить, что работа волонтером повышает ощущение социальной включенности, способствует социализации, оказание помощи людям дает ощущение значимости, нужности. Активная добровольческая деятельность в пожилом возрасте повышает самооценку и позволяет испытывать положительные эмоции и чувство удовлетворенности.
В продолжение нашего исследования мы применили к респондентам 3 методики для изучения одиночества пожилых женщин. Чувство одиночества является сложным состоянием, оно напрямую влияет на переживание благополучия и жизнь в целом. Мы предположили, что если чувство одиночества - это ощущение изоляции, отсутствия эмоциональной близости и значимых социальных связей, то волонтерская деятельность восполняет эти дефициты и помогает пожилым женщинам не переживать подобное состояние остро.
Результаты методики диагностики уровня субъективного ощущения одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона можно представить в следующем виде: эмпирическая группа (n = 15) продемонстрировала значение показателя в 11 единиц, контрольная (n = 15) - в 10,73. Значение U-критерия составило 68,5 * . При этом уровень значимости различий составлял: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,000; оценка производилась по критерию U-критерию Манна - Уитни.
Анализ полученных данных показал, что участницы обеих групп продемонстрировали низкий уровень одиночества. Высокий и средний уровень субъективного ощущения одиночества в обеих группах не выявлены. При этом участницы эмпирической группы оказались чуть более склонны к переживанию одиночества.
Таким образом, мы можем видеть, что ощущение социальной изоляции не преодолевается у женщин, занимающихся волонтерской деятельностью. Даже будучи включенными в активную социальную жизнь, они более склонны переживать одиночество, чем женщины контрольной группы. Их социальная жизнь является довольно насыщенной, но субъективное ощущение отсутствия эмоциональной близости и изоляции все равно не преодолено.
Для определения ведущего вида одиночества мы использовали опросник С.Г. Корчагиной. Он направлен на установление глубины переживания одиночества и его вида (диффузное, отчуждающее, диссоциированное). Результаты его применения к участникам настоящего исследования представлены в табл. 4.
Таблица 4 – Ведущий вид одиночества (средние значения)
Table 4 – The Leading Type of Loneliness (Average Values)
|
Показатели |
Эмпирическая группа n = 15 |
Контрольная группа n = 15 |
Значение U-критерия |
|
Общее одиночество |
14 |
17 |
88 |
|
Диффузное одиночество |
12 |
19 |
57* |
|
Отчуждающее одиночество |
17 |
14 |
83 |
|
Диссоциированное одиночество |
14 |
17 |
86,5 |
Примечания. Уровень значимости различий: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,000; оценка по U-критерию Манна – Уитни.
В целом, в обеих группах мы видим неглубокое переживание одиночества. В ходе качественного анализа выявлено, что в эмпирической группе ведущим видом одиночества является «отчуждающее». Оно характеризуется преобладанием у личности стремления к обособлению, отчуждению от других людей, человек может чувствовать себя покинутым, потерянным.
Таким образом, женщины-волонтеры, несмотря на социальную активность, могут переживать разрушение значимых связей, отсутствие эмоциональной близости, они могут быть тревожны, легко возбудимы и подозрительны. Постоянное переживание отчуждения может в дальнейшем вести к осознанному одиночеству, при котором человек не верит в возможность быть понятым, принятым, выслушанным.
Участники контрольной группы получили более высокие результаты по двум видам одиночества: «диссоциированное» и «диффузное», которое преобладает. В состоянии последнего человек стремится к другим людям для подтверждения собственной значимости, полностью идентифицируясь с человеком, отождествляя себя с ним, принимая его ценности, цели и смыслы. Такие люди ищут в других поддержку, сопереживание и, хотя бы, временное принятие.
Интересно, что диффузное одиночество получило минимальное количество баллов в группе женщин-волонтеров. Хотя, начиная наше исследование, мы предполагали, что люди именно с таким типом одиночества будут включаться в социально-значимую деятельность, тем самым увеличивая количество положительных контактов с окружающими.
Мы можем попытаться объяснить такие противоречивые данные. Волонтерская деятельность предполагает помощь другим, пожилые женщины, занимающиеся добровольчество деятельностью, стремятся отдавать, поддерживать. В их картине мира в модели «давать – брать» преобладает полюс «давать». При переживании одиночества они предпочитают справляться с этим состоянием самостоятельно, не ища поддержки. Они не видят для себя возможности попросить о помощи и быть услышанными. Именно поэтому не обращаются к другим, а замыкаются и переживают болезненные состояния самостоятельно. При «диффузном» виде одиночества, которое преобладает в контрольной группе, человек стремится восполнить свои эмоциональные потребности за счет других, он не делится своим, а пытается стать живым зеркалом того, у кого ищет поддержки, пользоваться его психическими ресурсами. У таких людей есть постоянный страх потери объекта идентификации, зависимость от него.
Такая форма реагирования не свойственна людям, которые хотят поддерживать других, делиться своими ресурсами: временными, эмоциональными, личностными. При этом оба способа переживания состояния одиночества не уменьшают его. «Отчуждение» делает человека еще более закрытым и изолированным, а тесные контакты с окружающими при «диффузном» одиночестве не восполняют внутреннее ощущение уверенности и принятие себя, а только рождают постоянный страх потери близких.
В завершение исследования мы решили посмотреть, как пожилые женщины относятся к состоянию одиночества. Изучение этого аспекта может показать, видят ли пожилые люди в состоянии одиночества только негативные стороны (которые являются следствием дефицита социальных контактов и отчуждения), либо они способны обнаружить в нем и позитивный ресурс (возможность саморазвития, реализации творческого потенциала). Для изучения отношения пожилых людей к одиночеству мы предложили нашим испытуемым «Дифференциальный опросник переживания одиночества» (ДОПО) Е.Н. Осина, Д.А. Леонтьева. Результаты его использования в рамках настоящего исследования приведены в табл. 5.
Таблица 5 – Переживание одиночества (средние значения)
Table 5 – Loneliness Experience (Average Values)
|
Качества переживания одиночества |
Эмпирическая группа n = 15 |
Контрольная группа n = 15 |
Значение U-критерия |
|
Изоляция |
14 |
15 |
96,5 |
|
Самоощущение |
13 |
18 |
81 |
|
Отчуждение |
15 |
16 |
110,5 |
|
Дисфория |
13 |
18 |
71,5* |
|
Проблемное одиночество |
14 |
17 |
83 |
|
Потребность в компании |
13 |
18 |
71* |
|
Радость уединения |
17 |
14 |
90,5 |
|
Ресурс уединения |
16 |
15 |
103,5 |
|
Общее переживание одиночества |
14 |
17 |
94,5 |
|
Зависимость от общения |
13 |
18 |
71* |
|
Позитивное одиночество |
16 |
15 |
99,5 |
Примечания . Уровень значимости различий: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,000; оценка по U-критерию Манна – Уитни.
Анализ результатов показал, что испытуемые эмпирической группы, испытывая одиночество, могут видеть в нем ресурс, об этом свидетельствуют высокие результаты по шкалам «Радость уединения», «Ресурс уединения», «Позитивное одиночество». Женщины-волонтеры способны испытывать положительные эмоции в ситуациях уединения, осознанно использовать время наедине с самим собой.
По субшкалам «Изоляция», «Самоощущение», «Отчуждение», «Дисфория», «Проблемное одиночество», «Потребность в компании», «Общее переживание одиночества», «Зависимость от общения» более высокие значения получили участники контрольной группы. Мы можем предположить, что нехватка общения угнетающе действует на пожилых женщин, не занимающихся волонтерством, и вызывает у них негативные переживания. Для испытуемых контрольной группы свойственно восприятие себя как одинокого, отверженного и изолированного человека. Одиночество воспринимается ими негативно, рождает сильный страх и тревогу. Исходя из данных предыдущего опросника, можно утверждать, что при диффузном типе одиночества такие чувства могут толкать людей на увеличение социальных контактов, которые воспринимаются как возможный инструмент избавления от этого страха. При этом, несмотря на стремление построения симбиотических отношений с людьми, в данной группе все равно наблюдается дефицит близкого общения, эмоциональной близости и контактов с окружающими.
Волонтеры «серебрянного возраста» не воспринимают общение с окружающими как возможность преодоления чувства внутреннего одиночества, они не восполняют эту дефицитарную потребность за счет построения социальных контактов. Добровольческая деятельность несет для них другие смыслы и восполняет иные потребности.
Заключение . Проведенное нами исследование выявило различия в эмоциональной сфере женщин пожилого возраста вовлеченных и не вовлеченных в волонтерскую деятельность. Занятие добровольчеством помогает пожилым женщинам поддерживать свое эмоциональное состояние в положительном ключе, получать радость от социально активной жизни, не испытывать внутреннюю неуверенность и конфликтность, чувствовать себя энергичными. При этом при практически равных социальных и возрастных параметрах женщины, включенные в волонтерскую деятельность, все равно имеют чуть более низкий уровень субъективного благополучия и счастья. Занятие волонтерской деятельностью не влияет на глубинное чувство одиночества. Участницы обеих групп переживают чувство одиночества (хотя и неглубокого уровня).
Таким образом, наша гипотеза подтвердилась частично. Занятие волонтерской деятельностью действительно положительно влияет на общий эмоциональный фон женщин-волонтеров, но при этом оно не оказывает влияния на переживание чувства одиночества.
Результаты проведенного исследования могут быть использованы для организации обучения сотрудников некоммерческих организаций, работающих с возрастными добровольцами, а также специалистами государственных социальных организаций, оказывающими сопровождение и социально-психологическую помощь пожилым женщинам.