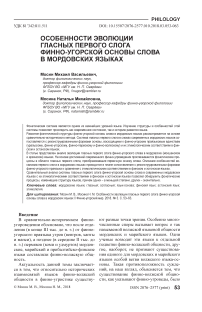Особенности эволюции гласных первого слога финно-угорской основы слова в мордовских языках
Автор: Мосин Михаил Васильевич, Мосина Наталья Михайловна
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 3 т.10, 2018 года.
Бесплатный доступ
Фонетическая система является одним из важнейших уровней языка. Изучение структуры и особенностей этой системы позволяет проcледить как современное состояние, так и историю развития языка. Развитие фонетической структуры финно-угорской основы слова в мордовских языках рассматривается на основе сравнительно-исторического метода. Система гласных первого слога в словах современных мордовских языков сопоставляется с реконструированными формами основы, восходящими к финно-угорским праязыковым единствам (уральскому, финно-угорскому, финно-пермскому и финно-волжскому) и их этимологическим соответствиям в финском и эстонском языках. В статье представлен анализ эволюции гласных первого слога финно-угорского слова в мордовских (мокшанском и эрзянском) языках. На основе достижений современного финно-угроведения прослеживаются фонетические процессы в области гласных первого слога, преобразовавшие первичную основу слова. Описание особенностей вокализма первого слога в мордовских языках проводится в плане сопоставления с реконструированными формами финно-угорского праязыка и сравнения с этимологическими соответствиями в финском и эстонском языках. Сравнительный анализ системы гласных первого слога финно-угорской основы слова в современных мордовских языках с их этимологическими соответствиями в финском и эстонском языках позволил обнаружить фонетические процессы, изменившие структуру языков, причем одних - в меньшей степени, других - значительно.
Мордовские языки, гласный, согласный, язык-основа, финский язык, эстонский язык, этимология
Короткий адрес: https://sciup.org/147217879
IDR: 147217879 | УДК: 81’342:811.511 | DOI: 10.15507/2076-2577.010.2018.03.053-063
Текст научной статьи Особенности эволюции гласных первого слога финно-угорской основы слова в мордовских языках
В сравнительно-историческом финно-угороведении обосновано, что после отделения (в конце III тыс. до н. э.) от финноугорского праязыка угров (венгров, ханты и манси), а позднее (в середине II тыс. до н. э.) пермяков (коми и удмуртов) мордовские, марийский и прибалтийско-финские языки составляли финно-волжскую общность.
Актуальность данной темы заключается в том, что относительно исторических взаимосвязей языков финно-волжской общности в финно-угристике существу
ют разные точки зрения. Особенно многочисленные споры вызывает вопрос о так называемой волжской языковой общности мордовских и марийского языков. Одни ученые возводят эти языки к отдельной подветви финно-волжской общности, другие, наоборот, не признают существования единого для мордовских и марийского языков особой ветви волжского языка-основы. Такая противоположность суждений, на наш взгляд, объясняется тем, что существование финно-волжской общности, как указывают финно-угроведы, было
ISSN 2076–2577 (print) 53
® ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ непродолжительным [12], но и малоизу-ченностью проблемы исторических взаимосвязей между ее ветвями: мордовскими и марийскими языками, с одной стороны, волжскими (мордовскими и марийским) и прибалтийско-финскими – с другой. В статье системно и подробно, с применением количественной обработки материала рассматривается вокализм первого слога именных и глагольных основ в мордовских языках с их этимологическими соответствиями в прибалтийско-финских языках.
Целью исследования является определение генетического тождества элементов в системе гласных в рассматриваемых языках и реконструированных праязыковых звуках; выявление фонетических процессов в области гласных, преобразовавших фонетическую структуру первичной основы слова праязыка в мордовских языках.
Обзор литературы
Относительно исторических связей прибалтийско-финских, мордовских и марийских языков и отношения их к финно-волжской общности в финно-угрове-дении существуют разные точки зрения. Согласно утвердившимся мнениям о степени общности мордовских и марийских языков К. Е. Майтинская выделяет два направления: одни ученые (М. Жирли, Ю. Тойвонен, Д. Дечи) возводят эти языки к отдельной подветви финно-волжской общности, другие (Г. Берецки, Д. Гено) – не признают существования единства, третьи (Э. Итконен, Б. А. Серебренников) считают вопрос об отдельной общности этих языков нерешенным [7].
Взглядов представителей первой группы придерживались Л. П. Грузов1, И. С. Галкин [3], мнение второй группы разделяет К. Хяккинен [20]. Ряд исследователей, такие, как Л. Хакулинен [13], Е. Хелимский [14], Д. В. Цыганкин2 и др., допускают существование лишь финноволжской общности.
В процессе изучения лингвистического материала языков, причисляющихся к финно-волжской группе, финно-угроведы убеждаются в том, что наибольшее сходство имеют прибалтийско-финские и мордовские языки. Их тесные связи на лексическом, фонетическом и морфологическом уровнях отмечают П. А. Аристэ [2], А. П. Феоктистов [11], Б. А. Серебренников [9], Г. Берецки [17], Д. Т. Надькин [8], П. Хайду [12].
Учитывая важность изучения проблемы общности финно-волжских языков, в предлагаемой статье, опираясь на обобщающие исследования по сравнительно-исторической фонетике финно-угорских языков Е. Н. Сетяля [26], Й. Синнеи [28], Х. Паасонена [24; 25], В. Штейница [27], Э. Итконена [21; 22], Б. Коллиндера [18], В. И. Лыткина [5; 6], П. Аристэ [2], П. Алвре [1; 15; 16], А. П. Феоктистова [11], Ю. Янхунена [23], Д. В. Цыганкина3, Д. Т. Надькина [8], Г. И. Ермушкина [4] и др., сделан сравнительно-исторический анализ причин преобразования и тенденций развития системы гласных первого слога финно-угорской основы слова.
Материалы и методы
Материалом для данного исследования послужила лексика (именные и глагольные основы), сохранившаяся в сравниваемых языках. Благодаря этимологическим исследованиям материалы мордовских (мокшанского и эрзянского) языков сопоставлены с реконструированными формами финно-угорского (уральского) праязыка и их этимологическими соответствиями в прибалтийско-финских (финском и эстонском) языках. Гласные первого слога именных и глагольных основ мордовских языков с помощью количественной обработки подвергнуты сравнению со звуковыми основами финского и эстонского языков. В результате анализа описание звукового состава общих основ показало, что гласные первого слога слова в финском и эстонском языках, за не- которым исключением сохранились без изменения, в мордовских же в результате определенных фонетических процессов претерпели изменения.
Результаты исследования и их обсуждение
Гласные финно-угорского праязыка в процессе развития в каждом языке претерпели более значительные перемены, чем согласные. В звуковых соответствиях между гласными также больше расхождений, чем между согласными [6]. По мнению большинства финно-угроведов, прибалтийско-финские языки, главным образом финский, эстонский и водский, лучше других финно-угорских языков сохранили вокализм финно-угорского языка-основы [18]. Что касается мордовских языков, то в них финно-угорский вокализм подвергся более значительным изменениям [10]. Тем не менее близость гласных мордовских языков с прибалтийско-финским вокализмом очевидна4.
Учитывая сказанное, мы использовали этимологические соответствия из финского и эстонского языков.
Большинство финно-угроведов склоняются к тому, что в состав гласных первого слога финно-угорского языка-основы входили: 1) палатальные (переднерядные) – a , e, ü , i ; 2) велярные (заднерядные) – a , o , u , а также e̮ . Наряду с ними наличествовали и долгие гласные ē , ī , ō , ū , ē̮ . В процессе изучения развития каждого гласного обнаружено, с одной стороны, значительное число тождественных звуковых соответствий в мордовских, финском и эстонском языках, с другой – наличие изменений праязыковых звуков, наблюдаемых в большей степени в мордовских языках, ср.: ф.-у. * a > мд. a , o , u , e , i , ф. а , эст. a , ä , ô ( ĕ ).
В абсолютном большинстве именных и глагольных основ, наличествующих в рассматриваемых языках, финно-угорский гласный * а в первом слоге слова сохранился без изменения, ср.: ур. * ala ‘низ’ > мд. aldo / alda ‘снизу’, ф., эст. ala ‘низ’; ур. * kala > мд. kal , ф., эст. kala ‘рыба’;
ф.-п. * para ‘хороший’ > мд. paro / para ‘хороший, добрый’, ф. parempi , эст. pa-rem ‘лучше’; ф.-у. * walka - > мд. valgoms / valgəms ‘слезть, спуститься’, ф. valkama , эст. valgam ‘пристань’ и т. д.
В результате лабиализации в нескольких мордовских соответствиях вместо ф.-у. * а выступают u или o , ср.: ф.-п. * jak-sa - ‘развязать, освободить’ > мд. juks'ems / juks'əms ‘распрягать, развязать’, ф. jak-saa , эст. jaksama ‘мочь, быть в состоянии’; доперм. * čȢkkɜ - ‘бить, поражать’ > мд. м. čukams ‘отделять мякину от зерна’, ф. hakata ‘бить, ударять’, эст. hakkama ‘начинать’; ф.-п. * talpa ‘клин’ > мд. tulo / tula ‘пробка, запор’, эст. talb ( talva ) ‘клин’; ур. * was'ka ‘железо (металл)’ > мд. э. us'ke ‘проволока’, ф. vaski , эст. vask ( vase -) ‘медь’; доперм. * tɜmɜ > мд. tumo / tuma , ф. tammi , эст. tamm ( tamme -) ‘дуб’ и т. д.
Переход ф.-у. * а в о в мордовских языках происходит перед полугласными j и v , ср.: ур. * pajɜ ‘ива’ > мд. poj / poju ‘осина’, ф., эст. paju ‘ива’; доперм. * s'Ȣwɜj > мд. s'ovon' / s'ovən' , ф., эст. savi , диал. sau ‘глина’; мд. ojme / vajme ‘дыхание, душа’, ф. vajmo ‘жена, супруга’, эст. vaim ( vaima -) ‘дыхание, дух’. Следует отметить, что в позиции перед полугласным v переход ф.-у. * а в о отмечается и в ливском языке, ср.: лив. koval , ф. kavala , эст. kaval ‘хитрый, умный’; лив. sova , ф. sauva , эст. sau ‘палка’.
Процесс сужения ф.-у. * а в мордовских языках претерпел в нескольких словах. В результате этого вместо него появляются i или е , ср.: ф.-п. * maja > мд. m'ijav , m'ijal , ф. majava , эст. majaja , majajas ‘бобр’; ф.-у. * wara > мд. v'ir' , ф. vaara ‘лес’; ф.-у. * sala > мд. э. s'el'ej ‘вяз’, ф. salava , эст. halapaju ‘ива’; ур. * was'ka ‘железо (металл)’ > мд. м. vis'kä ‘проволока’. Обращает на себя внимание тот факт, что этот процесс происходит в позиции перед мягким парным согласным или между ними. Подобное явление отмечено и в эрзянских диалектах, где вместо литературного а выступает е , ср.: pr'es' – лит. pr'as' ‘голова (та)’; s't'es' – лит. s't'as' ‘он встал’.
Финно-угорский *а претерпел изменения в некоторых случаях и в эстонском языке. В позиции после j он трансформи- ровался в ä, ср.: эст. jägu, ф. jako ‘часть’; эст. jätkama, ф. jatkaa ‘продолжать’. Это явление характерно и для ливского языка, ср.: лив. sv, sä̆uv (< *savi), ф. savi, эст. savi, sau ‘глина’; лив. laps, ф. lapsi, эст. lap-si ‘ребенок’. В отдельных основах вместо ф.-у. *а в эстонском выступает ô (э), ср.: эст. sôna, ф. sana ‘слово’; эст. pôlema, ф. palaa ‘гореть, пылать’.
Ф.-у. * ä > мд. ä , e , i , ф., эст. ä . Данный звук хорошо сохранился в прибалтийско-финских языках. Из 47 выявленных нами общих основ в 40 этимологически общих соответствиях финского и эстонского языков ф.-у. * ä выступает без изменения. В мокшанском языке этот звук присутствует в исконном виде в значительной части основ, и лишь в некоторых основах он трансформировался, главным образом сузился. В результате этого возникли следующие соответствия.
-
1. Основы, в которых ф.-у. * ä в мокшанском выступает без изменения, а в эрзянском закономерно появляется е , ср.: ф.-у. * jäŋe > мд. ei / äi , ф. jää , эст. jää ‘лед’; ф.-у. * käte > мд. ked' / käd' , ф. käsi , эст. käsi ‘рука’; ф.-у. * mälke / * mälɣe > мд. м. mälkä , ф. mälvi , эст. mälv ‘грудь (у птицы)’; ф.-у. * kälä - > мд. kel'ems / k'äl'əms ‘перейти вброд’; доперм. * cäjärɜ > мд. s'ejer' , s'ejer'ks / s'äjär' , ф. sääri , эст. säär ‘голень’ и т. д.
-
2. Основы, в которых вместо ф.-у. * ä как в эрзянском, так и в мокшанском появился е (таких основ несколько), ср.: ур. kämä > мд. keme / kemä , ф. kämä ‘крепкий, твердый’; доперм. * päkkä > мд. peke / pekä ‘живот’, ф. päkkä , эст. päkk ( päkа -) ‘мякоть ноги’; ур. päŋɜ ‘голова’ > мд. pe ‘конец, предел’, ф. pää ‘голова’; ур. * täwɜ > мд. t'evil'av / t'evl'al , t'evl'äv , ф. tävy , эст. tää , диал. tävi ‘легкие’. Переход ф.-у. * ä в е в эрзянском и в некоторых случаях в мокшанском языках наблюдается в основном перед согласными v , ŋ , иногда перед мягкими согласными t' , s' , l' и перед j .
-
3. Основы, в которых вместо ф.-у. * ä в мордовских выступает i , ср.: ур. * kälɜwɜ ‘золовка, деверь’ > мд. э. kijalo ‘золовка’, ф. käli ‘свояченица’; ф.-у. * säje > мд. sij ‘гной’, эст. sisi ‘внутренний’; доперм. * wake > мд. vij / vi ‘сила’, ф. väki ‘на-
- род, люди’, эст. vägi ‘сила’; ф.-в. *säkä- > мд. sija / sijä, ф. säkä, эст. sägä ‘сом’; ф.-у. *täje > мд. s'ij / s'i, ф. täi, эст. täi ‘вошь’; доперм. *tȢ̈kšɜ- > мд. t'ikše / t'iše ‘сено’, ф. tähkä, эст. tähk ‘колос’.
Последние примеры показывают, что сужение ф.-у. * ä в мордовских языках в i происходит в позиции перед согласным k и полугласным j . Из прибалтийско-финских языков сужение ф.-у. * ä в ě наблюдается в ливском языке. Оно происходит в том случае, если во втором слоге присутствует i , ср.: лив. kěžž , ф., эст. käsi ‘рука’.
Анализ слов с гласным * ä в первом слоге показывает, что данный звук характерен главным образом для именных основ, из глагольных он обнаружен только в трех: ф.-у. * näke - > мд. n'ejems / n'äjəms , ф. nähdä , эст. nähä ‘видеть’; доперм. * sȢ̈rɜ -/ * särɜ -> мд. ser'ed'ems / s'är'äd'əms , ф. särkeä , эст. särgema (заимствование из финского языка) ‘болеть’; ф.-у. * kälä - > мд. kel'ems / käl'əms , ф. kahlata , эст. kahla-ma ‘переходить в брод’.
В мокшанском языке в одной из основ отмечается лабиализация ф.-у. * ä , ср.: ур. * wäŋɜ > мд. м. ov , ф. vävy , эст. väi ‘зять’. Переход ф.-у. * ä в о в мокшанском языке обусловлен, вероятно, ассимилятивным влиянием полугласного w : ур. * ways > домд. * wavs > * wovs > общемд. * ovɜ > мд. м. ov . Процесс лабиализации происходит и с ф.-у. гласным * ä в эрзянском языке, ср. ojme / vajme ‘дух, дыхание’, ф. vajmo ‘жена’, эст. vajm ‘дух, дыхание’.
Ф.-у. * е > мд. e, ä, i , ф. е , эст. e, ä, i .
-
1. Основы, в которых ф.-у. * е сохранился без изменения как в мордовских, так и в прибалтийско-финских языках, ср.: ф.-у. * mete > мд. med' , ф., эст. mesi ‘мед’; ур. * wete > мд. ved' , ф., эст. vesi ‘вода’; ур. * pele - > мд. pel'ems / pel'əms , ф. pelä-tä , эст. peljata ‘бояться’; ур. * mene - ‘идти, ехать’ > мд. men'ems ‘вырваться’, ф. men-nä ‘идти, пойти’, эст. minema ; ф.-у. * weδɜ ‘северный олень’ > мд. vedr'ekš , ved'aka / vedraž ‘телка’, эст. veis < vedis < vedama ‘бык, корова’; мд. peze̮ ms / pezəms ‘мыть голову’, ф. pestä ( pese -), эст. pesema ‘мыть, мыться’ и т. д.
-
2. Основы, в которых ф.-у. * е в мокшанском трансформировался в ä , в других остался без изменения, ср.: ф.-у. * kere ‘кора, корка’ > мд. ker' / kär' ‘кора (дерева)’, ф. keri , эст. kere ‘лыко’; ур. * nere ‘нос’ > мд. n'еr' / n'är' ‘клюв, острие’; ур. * wetä - > мд. vet'ams , ved'ams / vät'əms ‘вести’, ф. ve-tää , эст. vedama ‘вести, тянуть’ и т. д. В эстонском языке переход ф.-у. * е в ä отмечается в некоторых основах перед согласным r , ср.: эст. pärä , ф. perä ‘задняя часть’, эст. äratama , ф. herättää ‘разбудить’.
-
3. Основы, в которых ф.-у. * е в мордовских языках претерпел процесс сужения, вследствие чего преобразовался в i , в финском и в большинстве случаев в эстонском языках остался без изменения, ср.: ф.-у. * kesä ‘лето’ > мд. kize̮ / kiza ‘лето, год’, ф. kesä , эст. kesa ‘лето’; ф.-п. * mela > мд. milä , ф. mela , эст. möla ‘весло’; ф.-у. * neljä > мд. n'il'е / n'il'ä , ф. neljä , эст. neli ( nelja ) ‘четыре’; ф.-у. * pеnе > мд. pin'e / pin'ä , ф., эст. peni ‘собака’; ф.-у. * repä ( s'ɜ ) > мд. э. r'ivez' , ф. repo , эст. rebane ‘лиса’; ф.-у. * s'epä ‘шея’ > мд. s'ive / s'ivä ‘ворот’, ф. sepä , эст. seba ‘передние прутья в крестьянских санях’ и т. д.
Переход ф.-у. * е и общемордовского * е в i отмечен в мокшанском икающем диалекте.
Ф.-у. * i > мд. i, e, о , ф., эст. i, e . Рассматриваемый звук хорошо сохранился в прибалтийско-финских языках, в мордовских же в одних случаях не изменился, в других претерпел расширение, в третьих – лабиализацию. В связи с этим ф.-у. * i в мордовских языках имеет различные корреспонденции.
-
1. Основы, в которых ф.-у. * i сохранился без изменения и в прибалтийско-финских, и в мордовских языках, ср.: ф.-у. * jikä / * ikä > мд. ije ‘год’, ф. ikä , эст. iga ‘возраст, век’; мд. inže / indži ‘гость’, ф. ihmi-nen , эст. inimene ‘человек’; мд. kir'ems / kir'əms ‘сокращаться’, ф. kireä ‘тугой, тесный’, kiristää ‘затягивать, подтягивать’, эст. kiristada ‘зажать, жать’; мд. piz'ems / piz'əms ‘идти (о дожде)’, piz'eme / piz'əm ‘дождь’, ф. pisara ‘капля’, pisaroida , pisar-taa ‘капать’, эст. pisar ‘слеза, капля’, pi-sama ‘моросить’; ф.-у. * pičla > мд. piz'ol /
-
2. Основы, в которых ф.-у. * i в мордовских языках в процессе расширения трансформировался в e , в прибалтийско-финских остался без изменения, ср.: ф.-у. * kiwe > мд. kev , ф., эст. kivi ‘камень’; ур. * nimi > мд. l'еm , ф., эст. nimi ‘имя’; yp. * piŋe > мд. реj ‘зуб’, ф., эст. pii ‘зуб, зубец’; ф.-п. * pišɜ ‘тиски, светец’ > мд. м. peš ‘светец’, мд. э. peščuvto ‘рукоятка сковороды, ухват’, ф., эст. pihid ‘тиски, щипцы, клещи’; ур. * silmä > мд. э. s'el'me , ф. silmä , эст. silm ‘глаз’ и т. д.
-
3. Основы, в которых ф.-у. * i в мордовских языках лабиализовался и перешел в о , в прибалтийско-финских сохранился без изменения, ср.: ф.-у. * ic'ä ‘отец, большой’ > мд. м * oc'a ‘брат отца’, ос'u ‘большой’, ф. isä , эст. isa ‘отец’ < и.-е. санскр. ica ‘собственник’; ф.-у. * wišɜ ‘зеленый’ > мд. ožo ‘желтый’, ф. vihreä ‘зеленый’; доперм. * n'ila ‘сок, соковыделение’ > мд. nola ‘древесный сок’, ф. nila ‘сок дерева’.
piz'əl , ф. pihlaja , эст. pihlakas , диал. pihl ‘рябина’.
Ф.-у. * i / * ü . Особо следует выделить основы с гласным * i / * ü в первом слоге слова. В финском языке вместо него выступает y , в эстонском – ü , в мордовских языках он имеет разные корреспонденции: в одних случаях – u , в других – е , в третьих – o :
-
1) мд. u , ср.: ур. * kije / * küje > мд. kuj / guj ‘змея’, ф. kyy , эст. küü ‘медянка’; ф.-у. * wiδɜ - me / * wüδɜ - me > мд. э. ud'еm , ф. ydin , эст. üdi ‘мозг’;
-
2) мд. е , ср.: ф.-у. * miŋä / * müŋä ‘задняя часть’ > мд. mejl'e / mel'ä ‘потом, после’, mekej / meki ‘обратно, назад’, ф. myöhä ‘поздний’; ф.-у. *kün'ä (kin'ä) / * künä ( kinä ) > мд. ken'еr' / ken'ər' , ф. kyynärä , эст. küünar ‘локоть’; ф.-у. * s'ilke / * s'ülke > мд. s'el'ge / s'el'gə ‘слюна’, s'el'gems / s'el'gəms ‘плюнуть’, ф. sylkeä , эст. sülgama , sülitama ‘плюнуть’; ур. * s'iδ'ɜ / * s'üδ'ɜ > мд. s'ed'ej , s'ed'eŋ / s'ed'i , ф. sydän ( sydäme -), эст. süda ‘сердце’; ф.-у. * tiŋe / * tüŋe ‘комель’ > мд. t'e- , t'ej- послелог, ф. tyvi ( tyve -), эст. tüvi ( tüve -) ‘ствол’; ф.-у. * sile / * süle > мд. sel' / s'el' , ф. syli , эст. süli ‘сажень’; ф.-у. * ikte / * ükte > мд. vejke ’, ф. yksi ( yhde -), эст. üks ( ühe -) ‘один’ и т. д.;
-
3) мд. о , ср.: ур. * piŋe / * püŋe ‘рябчик’ > мд. povo / povn'ä , ф. pyy , эст. püü ‘куропатка’.
Ф.-у. * ü > мд. e , i , ф. y , эст. ü . Данный звук хорошо сохранился в прибалтийско-финских языках, в мордовских сначала редуцировался, а затем произошло его прояснение: ф.-у. * ü > прамд. ъ ( ə ) > мд. е . В результате этого в общих основах финно-угорскому и прибалтийско-финскому ü в мордовских языках соответствует e , а в некоторых основах – i :
-
1) мд. е , ср.: ф.-п. * külmä > мд. kel'me / kel'mä , ф. kylmä , эст. külm ( külmä ) ‘холод, холодный’; ур. * künče > мд. kenže / kendže , ф. kynsi ( kynte -), эст. küüs ‘ноготь’; ур. * s'üδ'e ‘жар, уголь’ > мд. м. s'ed' , ф. sysi , эст. süsi ‘уголь’; ур. * wülä - ‘верхний’ > мд. vel'ks ‘верх, верхняя часть’, ф. ylä - / yllä ‘над, выше’, эст. ülä - ‘верхний’;
-
2) мд. i , ср.: ф.-у. * c'üklä / * c'ükl'ä > мд. s'il'ge / s'il'gä , ф. syylä , диал. syklä ‘бородавка’; доперм. * süŋä > мд. tšiv / tšivä , ф. hyvä , эст. диал. hüva ‘хороший’.
Ф.-у. * о > мд. о , u , ф. о , u , эст. о , u , ô . Гласный * о в сравниваемых языках получил неодинаковое развитие: в финском в большинстве основ он сохранился без изменения, в мордовских трансформировался во многих основах в u , а в эстонском – в ô .Учитывая разнообразие его соответствий в данных языках, общие основы с ф.-у. * о можно разделить на пять типов.
-
1. Основы, в которых ф.-у. * о сохранился без изменения в обеих ветвях языков, ср.: ф.-у. * okte > мд. ovto / oftə , ф. ohto , эст. ott ‘медведь’; ф.-у. * olge > мд. olgo / olgə , ф. olki ( olje -) ‘солома’; ур. * joke ‘река’ > мд. м. диал. Jov ‘река Мокша’, ф. joki ‘река’; ф.-у. * kolme > мд. kolmo / kolma , ф. kolme , эст. kolm ‘три’; мд. м. ponda ‘туловище’, ф. ponsi ‘сила, основа’; мд. sorma / s'orma ‘складка, морщинка’, ф. horma , эст. hormane ‘морщинка’; ф.-п. * роnčа - ‘решето, сито’ > мд. ponžavtoms / pon'džaftəms , ф. pohtaa ‘веять, вздувать’. Следует отметить, что таких основ выявлено очень мало.
-
2. Основы, в которых ф.-у. * о сохранился в финском и эстонском языках, а в мордовских трансформировался в u , ср.: ф.-у. * kota ‘хижина’ > мд. kudo / kud ‘дом’, ф. kota ‘шалаш’, эст. koda ‘сени, дом’ <
-
3. Основы, в которых ф.-у. * о сохранился в финском языке, в мордовских перешел в u , в эстонском в ô , ср.: ф.-у. * kopa > мд. kuvo / kuva ‘кора’, эст. kôba ‘сосновая кора’; ф.-у. * omte̮ > мд. undo / undа , ф. onsi , эст. ôôs ( ôône ) ‘дупло’; ф.-у. * towkε > мд. tundo ‘весна’, ф. touko , эст. tôug ‘яровой, посев’; ур. * totka ‘линь’ > мд. tutka , ф. totki , эст. tôtkes ‘налим’; ф.-у. * s'oδka ‘нырок’ > мд. s'ulgo / s'ulgă , ф. sotka , эст. sôtkes ‘пестрая чайка’ и т. д.
-
4. Основы, в которых ф.-у. * о в мордовских языках сохранился, в прибалтийско-финских трансформировался в u , ср.: ф.-у. * koδɜ > мд. kodams , ф. kutoa , эст. kuduma ‘ткать, плести’; ф.-п. * norɜ ‘хлеб, зерно’ > мд. norov / noru ‘хлеб’, ф. nurmi ( nurme -), эст. nurm ( nurma -) ‘нива’. Таких соответствий отмечено всего два.
-
5. Основы, в которых ф.-у. * о подвергся процессу сужения в обеих ветвях языков, ср.: ур. * kowse̮ > мд. kuz , ф. kuusi , эст. kuusk ‘ель’; ур. * toɣɜ > мд. tujems / tujəms , ф. tuo-da , эст. tuua ‘приносить’. Сужение ф.-у. * о в u произошло также в ливском языке, ср.: лив. umar' , ф. omena , эст. ôun ‘яблоко’: лив. um , ф., эст. oma ‘свой, собственный’.
и.-е. авест. kata ‘кладовая’; ф.-у. * ora > мд. uro / ura ‘шило’, ф. оrа ‘колючка, шип’, эст. ora ’стержень, шило’ < и.-е. санскр. ārā ‘шило’; ф.-у. * wole̮ - > мд. ul'ems / ul'əms , ф. olla , эст. olema ‘быть’.
А. Генетц считает, что начальное ф.-у. * о в первом слоге в мордовских языках сохраняется в том случае, если во втором слоге праосновы присутствует е [19].
Имеются этимологические соответствия, финно-угорские основы которых остались нереконструированными. В них прибалтийско-финский о соотносится с мордовским u . Следует отметить, что эти соответствия подтверждают обоснованную точку зрения Генетца об условиях перехода ф.-у. * о в мд. u , ср.: мд. pukšo / pukša ‘бедро’, ф. potka ‘задняя нога (животных)’, эст. pôtk ‘мышца, мускул’; мд. s'ulmо / s'ulma , ф. solmu , эст. sôlm ‘узел’; мд. sur , ф. sormi , эст. sôrm ‘палец’ и т. д.
Ф.-у. * u > мд. u , о , ф. u , эст. u , о . Данный звук хорошо сохранился в прибалтийско-финских языках, в мордовских же в большей части основ трансформировался в о .
Исходя из соответствий ф.-у. * u в данных языках, основы можно разделить на следующие группы.
-
1. Основы, в которых ф.-у. * u сохранился в обеих ветвях языков, ср.: ф.-у. * kuje ‘жир, масло’ > мд. kuja , ф. kuu ‘жир, сало’; ф.-у. * učɜ > мд. učа , ф. uuhi , эст. uhe ‘овца’; ур. * uje - > мд. ujems / ujəms , ф. uida , эст. ujima ‘плыть’ и т. д.
-
2. Основы, в которых ф.-у. * u в финском и эстонском языках не претерпел изменений, а в мордовских трансформировался в о , ср.: ф.-у. * uδ'e / * wuδ'e > мд. od , ф. uusi , эст. uus ‘новый’; ур. * tulka / * sulka > мд. tolga , ф. sulka , эст. sulg ‘перо’; ур. * luke̮ - ‘читать, считать’ > мд. э. lovoms , ф. lukea , эст. luge-ma ‘читать’; ф.-у. * pučkɜ > мд. počko / počka , ф. putki , эст. putk ‘стебель’ и т. д.
Как в финском, так и в эстонском языке почти все основы сохранили ф.-у. * u . Исключение составляют такие основы, как мд. м. kumba ‘кочка в болоте’, ф. kumpu ‘пригорок, холм’, но эст. komb (род. коmbа ) ‘холм’; ф.-у. * kunta ‘род’ > мд. м. kon'd'ä ‘товарищ, друг’, мд. э. kon'd'a : sonze kon'd'a ‘так, как он’, ф. kunta ‘община, волость’, но эст. - kond : inimkond ‘человечество’. В эстонском языке в некоторых основах вместо ф.-у. * u выступает о только при словоизменении и словообразовании: tuba ‘комната’ – toas ‘в комнате’, lugema ‘читать’ – loen ‘чтение’.
Наряду с краткими гласными согласно признанному в финно-угроведении положению в праязыке наличествовали также долгие гласные [6, 192 ]. По мнению Е. Ит-конена, «…в мордовских языках долгие гласные получили иное развитие, чем краткие» [21, 90 ].
Следы долгих гласных праязыка обнаруживаются в следующих общих основах в мордовских языках, ср.: ф.-у. * ē > мд. e / ä , i , ф. ie , эст. ee :
-
1) мд. e / ä , ф. ie , эст. ее , ср.: ур. * kēle > мд. kel' / käl' , ф. kieli , эст. keel ‘язык’; ф.-у. * lēme ‘сок, суп’ > мд. l'em / l'äm , ф. liemi , эст. leem ‘суп, бульон’; ф.-у. * pele ‘косяк’ > мд. м. päl' ‘шест’, ф. pieli ‘косяк’, эст. peel ‘мачта, жердь’; ф.-у. * nēre > мд. n'еr' / n'är' ‘клюв, морда’;
-
2) мд. i , ф. ie , эст. ее , ср.: ур. * n'ēle - > мд. n'il'ems / n'il'əms , ф. niellä , эст. neelama
‘глотать’; ф.-у. * sēme - ‘пить’ > мд. s'imems / s'iməms , ф. siemaista , siemaita ‘глотнуть’.
Ф.-у. * ī > мд. i , ф. ii , ie , эст. ii . Долгий * ī хорошо сохранился в финском и эстонском языках, в мордовских же ему соответствует краткий i , ср.: ф.-у. * wīka - / * vīje - ‘нести, носить’ > мд. vijems / vijəms , ф. viedä , эст. viima ‘нести, отнести’, доперм. * pīre > мд. pir'e ‘огород’, ф. piiri , эст. piir ‘граница, рубеж’. Следует отметить, что таких основ в сравниваемых языках весьма незначительное количество.
Ф.-у.* ō (по Редеи * ē ) > мд. о , а , u , ф. uо , эст. oo , uu . Следы финно-угорского * ō в изучаемых языках обнаруживаются в следующих основах: мд. э. jon ‘разум, рассудок’, ф. juoni ‘ряд, вереница’, эст. joon ‘линия, черта’; ур. * δ'eme > мд. l'om / lajme , ф. tuomi , эст. toom ‘черемуха’; ур. * п'e̮1e̮ > мд. nal , ф. nuoli , эст. nool ‘стрела’; ур. * sone̮ /* sē̮ ne̮ > мд. san , ф. suoni , эст. soon ‘жила’; ф.-у. * s'ē̮ me̮ > мд. м. s'av , ф. suomi , эст. soomus , soome ‘чешуя’; мд. kon'a ‘лоб’, ф. kuono , эст. koon ‘морда, рыло’; мд. pola , ф. puoli , эст. pool ‘супруг, супруга’; ф.-у. * s'ōle̮̮̮ > мд. s'ulo / s'ula , ф. suoli , эст. sool ‘кишка’; ур. * kōle - > мд. kuloms / kuləms ‘умирать’, ф. kuolla , эст. koolma ‘околеть (о животных)’; ур. * n'ōle - > мд. nolams , ф. nuolla , эст. noolima ‘лизать’. Пока не удалось выяснить причины разных корреспонденций финно-угорского * ō в мордовских языках, так как гласные о , а , u встречаются в различном фонетическом окружении.
Переход ф.-у. * ō в ū отмечается в эстонском языке: tooma / tuua ‘принести’, loonud / luua ‘создавать’, jоon / juua ‘пить’. Следует отметить, что в южноэстонских диалектах происходит чередование долгих гласных со сверхдолгими: ē – ī̮ ( ī ): kē1е ‘языка’ – kī̮l ‘язык’; ō – ū̮ ( ū ): lōma ‘скота’ – lū̮ m ‘скот’; п – ǖ̮̮ ( ǖ ): sпnü ‘съеденный’ – sǖ ‘ем’.
Ф.-у. * ū > мд. u , ф., эст. uu . Долгий ф.-у. * ū в прибалтийско-финских языках сохранился, в мордовских стал кратким. Такие основы единичны: ф.-у. * jūre > мд. jur , ф. juuri , эст. juur ‘корень’; ф.-у. * kūse̮ > мд. kuz , ф. kuusi , эст. kuusk ‘ель’; ур. * kūlе - > мд. kul'ems / kul'əms , ф. kuulla , эст. kuulma ‘слышать’.
Заключение
Сравнительное описание звукового состава общих основ показывает, что в финском и эстонском языках гласные первого слога, за некоторым исключением, сохранились без изменения, в мордовских же в результате определенных фонетических процессов произошли изменения в каждом гласном, естественно, в разной степени.
Основные явления, преобразовавшие праязыковое состояние первого слога финно-угорских основ в мордовских языках, следующие.
-
1. Лабиализация гласных. В мордовских языках ее следует считать частичной, так как она охватила гласный * а только в 15 основах из 89. В 10 случаях * а преобразовался в u и в 5 – в o . Сделать какие-либо заключения относительно трансформации * a в u не представляется возможным, так как переход произошел в разных позициях. Переход * а в о наблюдается перед полугласными j и v .
-
2. Сужение гласных. Им были охвачены гласные * а , * ä , * е , * о . Финно-угорский * а сузился перед гласными переднего ряда или между ними в 10 случаях: в 5 основах он трансформировался в е , в 5 – i . Гласный * ä претерпел сужение в 18 основах из 46, главным образом в эрзянском языке и в отдельных случаях – в мокшанском. Следует отметить, что гласный * ä зафиксирован преимущественно в именных основах, в глагольных – только в 4 случаях. Переход * ä в e реализуется чаще перед полугласными j , v и согласным ŋ , реже перед мягкими парными согласными t' , s' , l' .
-
3. Расширение гласных. В мордовских языках расширению подверглись гласные * i , * е , * ü , * u . Переход * i в e прои-
- зошел в 12 основах из 26. В диалектах подобный процесс активнее – в них наряду с e вместо *i выступает ä. Финноугорские *ü и *i в большинстве случаев перешли в е. Расширение *е в ä в основном характерно для диалектов мордовских языков. Особенно распространено расширение *u: в 34 из 52 основ *u перешел в о.
Трансформация * ä в i в мордовских языках происходит в основном перед согласным k и полугласным j (в 15 основах из 46) и преобладает в мокшанском икающем говоре. Широкое распространение в мордовских языках получил переход * о в u (в 27 из 53 основ). Данное явление в отдельных случаях встречается в финском и эстонском языках.
Изменение праязыкового состояния гласных первого слога в отдельных основах вызвано переходом долгих гласных * ī , * ē , * ū , * ō (* ā ) в краткие. Долгие * ī , * ē , * ū перешли соответственно в краткие i , e , u . Гласный * о (* е) в одних случаях перешел в а , в других – в о , в третьих – в u . Несмотря на наличие указанных фонетических процессов, нет оснований говорить о кардинальном преобразовании праязыкового состояния гласных первого слога в мордовских языках. Отмеченные явления затронули почти все гласные, однако они не имели массового характера и отразились не на всех основах. Фронтальный анализ позволяет заключить, что гласные первого слога * а , * ä , * е , * i , * о , * u в половине основ сохранились в прежнем виде и имеют прямые соответствия в финском и эстонском языках. Например, гласный * а сохранился в 64 из 89 общих основ; * ä – в 22 из 46 в мокшанском языке; * e в 23 из 43 общих основ; i – в 9 из 26; o – в 27 из 53; u – в 17 из 52.
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ диал. – диалектный вариант домд. – домордовский язык доперм. – допермский язык и.-е. авест. – авестийский язык и.-е. санскр. – санскрит лив. – ливский язык лит. – литературный язык мд. – мордовские языки мд. м. – мордовский-мокша язык мд. м. диал. – диалект мордовского-мокша языка мд. э. – мордовский-эрзя язык общемд. – общемордовский язык прамд. – прамордовский язык уфр. – уральский язык
-
– финский язык
-
-в. – финно-волжский язык
ф.-п. – финно-пермский язык ф.-у. – финно-угорский язык эст. – эстонский язык эст. диал. – диалект эстонского языка
Список литературы Особенности эволюции гласных первого слога финно-угорской основы слова в мордовских языках
- Алвре Р. О некоторых общих и отличительных чертах консонантизма в прибалтийско-финских и пермских языках // Вопросы финно-угроведения. Языкознание: тез. докл. ХVI всесоюз. конф. финно-угроведов. Сыктывкар, 1979. С. 3.
- Аристэ П. А. Формирование прибалтийско-финских языков и древнейший период их развития // Вопросы этнической истории эстонского народа: сб. ст. Таллин: Эстон. гос. изд-во, 1956. С. 5-48.
- Галкин И. С. Финно-угорские языки // Русская речь. 1972. № 3. С. 107-114.
- Ермушкин Г. И. Ареальные исследования по восточным финно-угорским языкам (эрзя-мордовский язык). Москва: Наука, 1984. 142 с.
- Лыткин В. И. О вокализме непервого слога финно-угорских языков // СФУ. 1970. № 4. С. 221-238.
- Лыткин В. И. Сравнительная фонетика финно-угорских языков // В. И. Лыткин, К. Е. Майтинская, К. Редеи. Основы финно-угорского языкознания. Вопросы происхождения и развития финно-угорских языков. Mосква: Наука, 1974. С. 108-213.
- Майтинская К. Е. К вопросу о проблеме волжско-финской языковой общности // В. И. Лыткин, К. Е. Майтинская, К. Редеи. Основы финно-угорского языкознания. Вопросы происхождения и развития финно-угорских языков. Mосква: Наука, 1974. С. 214-381.
- Надькин Д. Т. Основа глагола в мордовских, языках в аспекте финно-волжской общности // Финно-угристика. Саранск, 1979. Вып. 2. С. 81-103.
- Серебренников Б. А. История мордовского народа по данным языка // Этногенез мордовского народа: материалы науч. сессии. 8-10 декабря 1964 года. Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1965. С. 237-256.
- Феоктистов А. П. Мордовские языки // Основы финно-угорского языкознания. Прибалтийско-финские, саамские и мордовские языки. Mосква: Наука, 1975. С. 248-343.
- Феоктистов А. П. Мордовские языки и диалекты // Вопросы этнической истории мордовского народа: тр. Мордов. этногр. экспедиции. Москва: Изд-во АН СССР, 1960. Вып. 1. С. 63-82.
- Хайду П. Уральские языки и народы: пер. с венг. Mосква: Прогресс, 1985. 429 с.
- Хакулинен Л. Развитие и структура финского языка. Ч. 1. Фонетика и морфология. Москва: Изд-во иностр. лит., 1953. 300 с.
- Хелимский Е. А. Древнейшие угро-самодийские языковые связи (анализ некоторых аспектов генетических и ареальных взаимоотношений между уральскими языками): автореф. дис. … канд. филол. наук. Тарту, 1979. 32 с.
- Alvre Р. Uurali keelte ajaloolise foneetika harjutusülesanded ja materjalid. Väl. 1. Üksikkonsonandid. Tartu: Tartu Riiklik Ülikool, 1985. 110 c.
- Alvre Р. Uurali keelte ajaloolise foneetika harjutusülesanded ja materjalid. Väl. 2. Konsonantühendid. Tartu: Tartu Riiklik Ülikool, 1985. 116 с.
- Bereczki G. Cseremisz (mari) nyelvkönyv. Budapest: Tankӧnyvkiadό, 1974. 94 p.
- Collinder B. Comparative Grammar of the Uralic Languages. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1960. 425 p.
- Genetz A. Ensi tavun vokaalit suomen, lapin ja mordvan kaksi ja useampitavuisissa sanoissa // Suomi. Helsinki, 1896. Vol. 3, № 13. 56 s.
- Häkkinen K. Johdatusta fenno-ugristiikkaan. Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen opintomonisteita 10. Turku, 1980. 83 s.
- Itkonen E. Die Laut-und Formenstruktur der finnisch-ugrischen Grundsprache // UAJb. 1962. XXIV. C. 199-201.
- Itkonen E. Zur Frage nach der Entwicklung des Vokalismus der ersten Silbe in dem finnisch-ugrischen Sprachen, insbesondere im Mordwinischen // Finnisch-ugrische Forschungen. Helsinki, 1946. Bd. 29, h. 1-3. P. 222-337.
- Janhunen J. On the structure of Proto-Uralik // FUF. 1982. Bd. 44, h. 1-3.
- Paasonen H. Beiträge zur finnisch-ugrisch-samojedischen Lautgeschichte. Budapest: Comité hongrois de l'Association Internationale pour l'Exploration de l'Asie Centrale et de l'Extrême - Orient 1916/17, 1916. 111 s.
- Paasonen H. Mordwinische Lautlehre: akademishe Abhandlung. Helsingfors: Société Finno-Ougrienne, 1893. 123 s.
- Setälä E. N. Yhteissuomalainen äännehistoria. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1899. 446 s.
- Steinitz W. Geschichte des finnisch-ugrischen Vokalismus // Acta Instituti Hungarici Universitatis Holmiensis Series B. Linguistica: 2. 1944. Vol. 98 (n.F. 23), № 3/4. P. 405-407.
- Szinnyei J. Finnisch-ugrische Sprachwissenschaft. Leipzig: Walter De Gruyter, 1922. 133 p