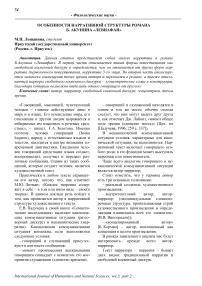Особенности нарративной структуры романа Б. Акунина "Левиафан"
Автор: Лошанина М.Н.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 3-2 (6), 2017 года.
Бесплатный доступ
Данная статья представляет собой анализ нарратива в романе Б.Акунина «Левиафан». В первой части описывается такая форма повествования как свободный косвенный дискурс и определяется, чем он отличается от других форм нарратива (перволичного повествования, нарратива 3-го лица). Во второй части анализируется механизм совмещения точек зрения автора и персонажа в романе, а также описываются маркеры свободного косвенного дискурса - эгоцентрические слова и конструкции, благодаря которым возможно отделить одного говорящего от другого.
Автор, нарратор, свободный косвенный дискурс, точка зрения
Короткий адрес: https://sciup.org/170184555
IDR: 170184555
Текст научной статьи Особенности нарративной структуры романа Б. Акунина "Левиафан"
«Говорящий, мыслящий, чувствующий человек – главное действующее лицо в мире и в языке. Его осмысление мира, его отношение к другим людям выражается в избираемых им языковых и речевых средствах», – пишет. Г.А. Золотова. Именно поэтому человек говорящий (homo loquens), наряду с естественным языком и текстом, находится в центре внимания современной лингвистики. Ежедневно человек говорящий средствами языка создает, воспроизводит, получает и передает различные сообщения. Одним из таких сообщений, которые создает человек, является художественный текст.
Практически в любом тексте скрывается его автор, потому что, как отмечает М.Ю. Лотман: «Каждое творение содержит в себе – в том или ином виде – своего творца». В данном докладе речь пойдет о том, как проявляется автор в нарративной структуре художественного текста.
Е.В. Падучева в своей книге «Семантические исследования» выделяет канонические коммуникативные ситуации (разговорный дискурс) и неканонические (нарратив). Каноническая коммуникативная ситуация возможна, если выполняются следующие условия:
– говорящий и слушающий присутствуют в контексте сообщения;
– момент произнесения высказывания говорящим совпадает с моментом его восприятия слушающим (единство времени);
– говорящий и слушающий находятся в одном и том же месте; обычно отсюда следует, что они могут видеть друг друга и, как отмечает Дж. Лайонз, «имеют общее поле зрения (единство места)» (Цит. по [Падучева, 1996, 259 с. 337]).
В неканонической коммуникативной ситуации условия, характерные для канонической ситуации, не выполняются. Нарративный текст включает говорящего особого рода: в его функции может выступать персонаж или повествователь.
Чаще всего аналогом говорящего в неканонической коммуникативной ситуации является автор-нарратор.
Стоит отметить, что у термина автор есть три основных толкования:
– реальный создатель художественного произведения;
– внутритекстовый автор, автор-нарратор («индивидуальная словесноречевая структура, пронизывающая строй художественного произведения и определяющая взаимосвязь всех его элементов» [В.В. Виноградов]);
– «концепированный автор» [Б. Корман] – автор, воплощенный как концепция в целом произведения.
В рамках заявленного анализа нас будет интересовать прежде всего автор-нарратор.
Текст нарратора – нарратив – бывает двух видов: традиционный нарратив и свободный косвенный дискурс.
Традиционный нарратив – это повествовательная форма, в которой аналогом говорящего является повествователь, не принадлежащий миру текста.
Традиционный нарратив делится на перволичное повествование и нарратив 3го лица.
-
1. Перволичное (диегетическое) повествование – это повествование от лица рассказчика-персонажа. Повествователь принадлежит миру текста, например, у него может быть собственное имя, он может иметь биографию, а также совершать какие-либо поступки. Такого повествователя также можно назвать рассказчиком . Например, в повести «Выстрел» А.С.Пушкина повествование ведется от лица героя, армейского офицера:
-
2. Нарратив 3-го лица – это экзегетическое (не персонифицированное) повествование. Нарратор не входит во внутренний мир текста, а оценивает со стороны и реагирует на диалоги персонажей.
Я пришел к Сильвио в назначенное время и нашел у него почти весь полк. <…> Мы сели за стол; хозяин был чрезвычайно в духе, и скоро веселость его соделалась общею; пробки хлопали поминутно, стаканы пенились и шипели беспрестанно, и мы со всевозможным усердием желали отъезжающему доброго пути и всякого блага. Встали из-за стола уже поздно вечером. При разборе фуражек Сильвио, со всеми прощаясь, взял меня за руку и остановил в ту самую минуту, как собирался я выйти. «Мне нужно с вами поговорить», — сказал он тихо. Я остался .
Примером использования нарратива 3го лица может служить повесть А.С. Пушкина «Пиковая дама»:
Дня через два, выходя с графиней садиться в карету, она опять его увидела. Он стоял у самого подъезда, закрыв лицо бобровым воротником: черные глаза его сверкали из-под шляпы. Лизавета Ивановна испугалась, сама не зная чего, и села в карету с трепетом неизъяснимым. Возвратясь домой, она подбежала к окошку, — офицер стоял на прежнем месте, устремив на нее глаза: она отошла, мучась любопытством и волнуемая чувством, для нее совершенно новым .
Традиционному нарративу противостоит повествовательная форма, которая получила название свободный косвенный дискурс (далее – СКД). Если в традиционном нарративе аналогом говорящего является повествователь, то в СКД эту роль выполняет персонаж, который, вытесняя повествователя, самостоятельно использует эгоцентрические элементы языка. Возникает особая фигура, невозможная ни в разговорном дискурсе, ни в традиционном нарративе – 3-ье лицо, которое обладает всеми правами 1-го.
В разных литературных текстах присутствие автора-нарратора ощущается в разной степени. Однако таких текстов, в которых бы автор-повествователь полностью отсутствовал, нет. Он так или иначе проявляет себя в семантике слов и грамматических категорий естественного языка. К классу таких слов относятся дейктические слова , указывающие на субъект, предметы, время и пространство, и показатели субъективной модальности – вводные слова; предложения с эксплицированной иллокутивной функцией; модальные слова и частицы, которые подразумевают говорящего, и т. п. Бертран Рассел в своей книге «Человеческое познание его сферы и границы» (1940 г.) назвал слова этого рода эгоцентрическими , поскольку они ориентированы на ego, т. е. на говорящего.
Например, в следующем контексте
Сергей Сергеевич нахмурился. Откровенно говоря , высказанное женой опасение его самого беспокоило. (В.Войнович. Иванькиада, или рассказ о вселении писателя Войновича в новую квартиру) вводная конструкция откровенно говоря подразумевает субъекта – персонажа, который выразил свое мнение.
Перейдем к анализу романа Бориса Акунина «Левиафан», повествовательной формой которого является свободный косвенный дискурс. Цель анализа состоит в том, чтобы понять механизм совмещения точек зрения автора и персонажа и определить, кто скрывается за теми или иными эгоцентрическими элементами.
Проанализируем первый отрывок из романа:
Комиссар наведался к капитану, навел справки. Итак, имя – Эраст П.Фандорин, российский подданный. Возраст российский подданный почему-то не указал. Род занятий – дипломат. Прибыл из Константинополя, следует в Калькутту, оттуда в Японию, к месту службы. Из Константинополя? Ага , должно быть, участвовал в мирных переговорах, которыми завершилась недавняя русско-турецкая война. Гош аккуратно переписал все данные на листок, прибрал в заветную коленкоровую папочку, где хранились все материалы по делу. С папкой он не расставался никогда - листал, перечитывал протоколы и газетные вырезки, а в минуту задумчивости рисовал на полях рыбок и домики. Это прорывалось заветное, из глубины сердца. Вот станет он дивизионным комиссаром, заработает приличную пенсию, и купят они с мадам Гош хорошенький домик где-нибудь в Нормандии. Будет отставной парижский флик рыбу удить да собственный сидр гнать. Плохо ли? Эх, к пенсии капиталец бы-хотя бы тысяч двадцать...
Данный отрывок - яркий пример того, как в одном отрезке нарративного текста способны на равных сосуществовать повествователь (нарратив 3-го лица) и персонаж (СКД). В отрывке есть эгоцентрические слова и конструкции, которые являются маркерами СКД, это:
-
1. Вопросительные конструкции:
-
2. Модальные и вводные слова, междометия:
# из Константинополя? Плохо ли?
# итак; должно быть, ага
В следующем отрывке наряду с теми эгоцентриками, которые уже были упомянуты в предыдущем, присутствуют оценочные слова и конструкции:
Поначалу первым по степени подозрительности числился сэр Реджинальд Мйлфорд-Стоукс. Тощий, рыжий, с растрепанными бакенбардами. На вид лет двадцать восемь - тридцать. Ведет себя странно: то таращит зеленые глазищи куда-то вдаль и на вопросы не отвечает, то вдруг оживится и понесет ни к селу ни к городу про остров Таити, про корал- ловые рифы, про изумрудные лагуны и хижины с крышами из пальмовых листьев. Явный психопат. Зачем баронету, отпрыску богатого семейства, ехать на край света, в какую-то Океанию? Чего он там не видал? Вопрос об отсутствующем значке - между прочим, заданный дважды - чертов аристократ проигнорировал. Смотрел сквозь комиссара, а если и взглянет, то словно на муху какую. Сноб поганый.
Основная функция эмоциональнооценочных слов - отразить отношение говорящего к действительности, содержанию или адресату сообщения. В данном отрывке, с одной стороны, встречаются оценочные слова и конструкции, в самом значении которых содержится элемент оценки:
Среди оценочных элементов, встречающихся в данном фрагменте, есть, с одной стороны, такие, в значении которых заложена оценка.
-
1. Таращить. -щу, -щишь; несов., перех. Разг. Широко раскрывать (глаза). Я лег очень рано; но, разумеется, не заснул и даже глаз не закрыл, а, напротив, таращил их. Тургенев, Часы. [МАС]
-
2. Понесет . Словоформа представляет лексему понести , производную от глагола нести. Нести. 7. Разг. Говорить что-л. вздорное, неразумное. Куда и зачем он ходил, этого Петька не говорил или нес что-то несуразное, нескладное. Гайдар, Дальние страны. [МАС]
-
3. Ни к селу ни к городу. Разг. Ирон. Совершенно не к месту, некстати. Регент, придерживая дьячка за сюртучную пуговицу, ни к селу ни к городу, пояснял ему в десятый раз, что жена его ангел и что не будь её, он бы совсем погиб (Слепцов. Спевка). [А.И.Фёдоров Фразеологический словарь русского литературного языка, 2008 г.];
-
4. Психопат. Разг. Психически неуравновешенный человек; псих. {Боркин:} Вы психопат, нюня, а будь вы нормальный человек, то через год имели бы миллион. Чехов, Иванов. [МАС]
-
5. Отпрыск. 2. перен. Устар., теперь ирон. Потомок. — Мой сын, Николай Евгеньевич Корень, — проговорил профессор,
-
6. Не видал. Видать. 2. ( обычно с отрицанием ). Разг. То же, что видеть (во 2 знач.). — Вы сами какое-то письмо вчера вечером читали, — говорил Захар, — а после я не видал. — Где же оно? — с досадой возразил Илья Ильич. И. Гончаров, Обломов. [МАС]
-
7. Чертов аристократ. Чертов. 2 . Груб. прост. В составе некоторых бранных выражений. Чертов сын. Чертова кукла.
-
8. Сноб поганый. Поганый. 3. Разг. Мерзкий, отвратительный, скверный. — Напрасно, напрасно, Екатерина Дмитриевна, ведете со мной такую политику. Я вас силой не удерживаю, не мил, поган, — идите на четыре стороны. А.Н. Толстой, Хмурое утро. [МАС]
махнув в его сторону худой загорелой рукой. — Единственный отпрыск, так сказать. Прошу познакомиться. Тэсс. Солнечный свет. [МАС]
С другой стороны, здесь есть слово глазищи, оценочный компонент значения которого возникает за счет использования суффикса -ищ- с увеличительным значением [РГ, 1980г.].
Кроме того такие эмоциональнооценочные слова служат в тексте маркерами речи героев. Именно благодаря им СКД того или иного героя можно отличить от нарратива 3-го лица. Например, слово старина встречается только в речи комиссара Гоша:
Он мечтательно произнес. – А не плохо бы. Достает кто-нибудь из вас, дорогие подозреваемые, шелковый платок с райской птицей - просто так, по рассеянности, - и сморкается в него. Тут старина Гош знал бы, как ему поступить.
– Все, господин инспектор. Можете его забирать. Пусть пока посидит в вашей каталажке. А потом, когда формальности будут завершены, я заберу его с собой во Францию. Прощайте, дамы и господа. Старина Гош сходит на берег, а вам всем счастливого пути.
Поэтому в отрывке: Плюнуть бы на все, да нельзя. Нет на свете ничего хуже убогой, нищенской старости. Кто-то нацелился хапнуть сокровище в полтора миллиарда франков, а тебе, старина, дожи- вать на жалкие сто двадцать пять в месяц. «…» Гош стыдливо сдернул с головы колпак с кисточкой (старушка Бланш вязала), накинул халат, влез в шлепанцы™, где в центре находится нарратив 3-го лица, именно это слово старина сигналит о том, что это уже не традиционный нарратив, а СКД.
В третьем отрывке встречаются все те же слова и конструкции с эгоцентрической валентностью [Е.В.Падучева «Эгоцентрические валентности и деконструкции говорящего», 2011, с.4]. Однако этот отрывок интересен тем, что здесь нарратив 3-го лица практически «изгнан» из канвы повествования, но автору все-таки необходимо сообщить читателю какие-либо сведения, поэтому ему приходится прибегать к специальным приемам.
Часто Б.Акунин прибегает к специальным приемам, чтобы практически «изгнать» нарратив 3-го лица из канвы повествования. Так, в следующем фрагменте, представляющем собой СКД, нарратив 3го лица, который появляется для передачи объективной информации, отграничен от основного текста скобками:
Второй – мсье Гинтаро Аоно, «японский дворянин» (так написано в пассажирском регистре). Азиат как азиат: невысокий, сухонький, не поймешь какого возраста, с жидкими усиками, колючие глазки в щелочку. За столом в основном помалкивает. На вопрос о занятиях, смутившись, пробормотал: "офицер императорской армии". На вопрос о значке смутился еще больше, обжег комиссара ненавидящим взглядом и, извинившись, выскочил за дверь. Даже суп не доел. Подозрительно? Еще бы! Вообще же дикарь дикарем.
Однако не только нарратив 3-го лица заключается в скобки, но и речь персонажа (СКД). Например, в главе «Рената Клебер» повествование ведется от третьего лица, а в эгоцентрических словах и конструкциях, заключенных в скобки, проявляется сама героиня - Рената:
Милфорд-Стоукс (ну и имечко) , как и предполагалось, брезгливо, отодвинул свою чашку.
- Обожаю цветы! – воскликнула мисс Стамп (тоже еще инженю выискалась) . – Но только живые.
Часто в романе встречаются такие эпизоды, в которых отделить голос героя от повествователя практически невозможно. Например:
Но Кларисса обливалась потом вовсе не из любви к морским пейзажам. Хотелось посмотреть, чем это занимается мистер Доно наверху? Куда с таким завидным постоянством удаляется он после завтрака?
И правильно сделала, что поинтересовалась . Вот он, подлинный лик улыбчивого азиата. Человек с таким застывшим, безжалостным лицом способен на что угодно. Все-таки представители желтой расы не такие, как мы, - и дело вовсе не в разрезе глаз.
С одной стороны, можно утверждать, что это речь нарратора (и он оценивает героиню), а с другой стороны, что это сама Кларасса Стамп оценивает себя. Однако в этом случае очевидно, что «неоднозначность атрибуции голоса» [Е.В.Падучева], является особым авторским приемом.
Обратимся еще к одной фразе из текста в конце главы «Комиссар Гош», которая также является яркой иллюстрацией данного приема. В первом абзаце отрывка звучит голос нарратора 3-го лица, во втором - комиссара Гоша, а в третьем трудно определить, потому что голоса сливаются в один:
Гош хотел было сыронизировать, что во Франции двадцать тысяч преступников, а у них двести тысяч пальцев, ослепнешь в лупу смотреть, но запнулся. Вспомнилась расколоченная витрина в особняке на рю де Гре-нель. На разбитом стекле осталось множество отпечатков пальцев. Однако никому и в голову не пришло их скопировать - осколки отправились в мусор.
Ишь до чего прогресс дошел! Ведь это что получается? Все преступления совершаются руками, так? А руки-то, оказывается, умеют доносить не хуже платных осведомителей! Да если у всех бандюг и ворюг пальчики срисовать, они ж не посмеют своими грязными лапами ни за какое черное дело браться! Тут и преступности конец.
От таких перспектив просто голова шла кругом.
В тексте также присутствует образ «играющего автора». Этот автор сам решает, какие декорации должны быть, как должны быть расставлены герои.
Мне понравилось, как элегантно осадил мистер Фандорин (кстати, он, оказывается, дипломат - это многое объясняет) несносного мужлана Гоша, который утверждает, что он рантье, хотя невооруженным глазом видно: этот тип занимается какими-то грязными делишками. Не удивлюсь, если он едет на Восток закупать опиум и экзотичных танцовщиц для парижских вертепов. [Последняя фраза перечеркнута].
***
Докторша подкатывалась к дипломату по всей слоновьей науке британского обольщения (оба действующих лица стояли у перил, вполоборота к уже упомянутому шезлонгу). Начала миссис Труффо, как положено, с погоды…
Акунин Б. не выбирает какую-либо одну форму повествования, границы между формами нарратива стираются. Точки зрения автора и персонажа в романе совмещаются, а их голоса то звучат самостоятельно, то сливаются в один, благодаря особому приему «игры на многоголосии» [Е.В. Падучева]. Но во всей это полифонии маркеры СКД (слова и конструкции с эгоцентрической валентностью) позволяют нам отделить одного говорящего от другого.
Список литературы Особенности нарративной структуры романа Б. Акунина "Левиафан"
- Падучева Е.В. Эгоцентрические валентности и деконструкция говорящего / Е.В. Падучева // Вопросы языкознания. - М.: Наука, 2011. - №3.
- Падучева Е.В. Семантические исследования: Семантика времени и вида в русском языке. Семантика нарратива / Е.В. Падучева. М., 1996.
- Падучева Е.В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью / Е.В. Падучева. - М., 1985; 6-е изд. М., 2009.
- Акунин Б. «Левиафан»: роман / Борис Акунин; [худож. И.Сакуров]. - М.: «Захаров, 2015. - 240 с.
- МАС - Словарь русского языка. В 4 т. / А.П. Евгеньева (ред.). М., 1981.