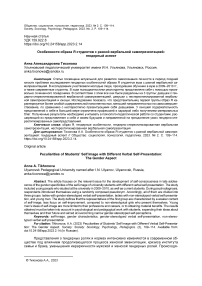Особенности образа я студентов с разной вербальной самопрезентацией: гендерный аспект
Автор: Тихонова Анна Александровна
Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp
Рубрика: Психология
Статья в выпуске: 2, 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена актуальной для развития самосознания личности в период поздней юности проблеме исследования гендерных особенностей образа Я студентов вуза с разной вербальной самопрезентацией. В исследовании участвовали молодые люди, проходившие обучение в вузе в 2009-2010 гг., а также современные студенты. В ходе психодиагностики респонденты представляли себя с помощью произвольно сочиненного псевдонима. В соответствии с этим все они были разделены на 3 группы: девушки с гендерно-стереотипизированной вербальной самопрезентацией, девушки с нестереотипизированной вербальной самопрезентацией и юноши. Исследование показало, что представительниц первой группы образ Я характеризуется более слабой содержательной наполненностью, меньшей направленностью на самосовершенствование, по сравнению с нестереотипно презентующими себя девушками. У юношей содержательность представлений о себе в большей мере ограничена профессией и карьерой либо получением материальных благ. Полученные результаты необходимо учитывать в психолого-педагогической работе со студентами, расширяющей их представления о себе и своем будущем и направленной на преодоление узких гендерно-стереотипизированных самопредставлений.
Образ я, гендерные особенности, гендерно-стереотипизированная вербальная самопрезентация, нестереотипизированная вербальная самопрезентация
Короткий адрес: https://sciup.org/149142429
IDR: 149142429 | УДК: 159.922.8 | DOI: 10.24158/spp.2023.2.14
Текст научной статьи Особенности образа я студентов с разной вербальной самопрезентацией: гендерный аспект
Представления о гендерных ролях и нормах интенсивно изменяются в современном обществе под влиянием продолжающегося процесса женской эмансипации, кризиса института семьи и брака, уменьшения иерархичности мужской и женской гендерных ролей. Происходя-
щие трансформации неоднозначно репрезентируются в СМИ и Интернете, что оказывает влияние на самосознание личности. Кроме того, если и мужчины, и женщины опираются в выстраивании образа Я на гендерные стереотипы и имеют узкий спектр жизненных отношений личности, что репрезентируется в их представлениях о себе, то их мотивация к саморазвитию снижается, сужаются возможности самоактуализации и самореализации. Чтобы предотвратить данную ситуацию, необходимо больше внимания уделять исследованию гендерной проблематики в психологии личности, особенно в позднем юношеском возрасте, когда происходит активное становление всех компонентов самосознания личности.
В большинстве научных работ гендер рассматривается как психологическое понятие, вмещающее в себя социальный, культурный и исторический контекст и характеризующее социальные представления о мужчине и женщине, об их психологических особенностях. Гендерные особенности Я-концепции, Я-образа и самосознания в той или иной мере исследовались такими авторами, как Т.В. Архиреева1, И.С. Клецина (2004), Н.Н. Аносова (2009), И.С. Кон (2002), В.В. Знаков (2019), В.В. Слободчиков и Е.И. Исаев2, А.А. Чекалина3, З. Фрейд4, К. Хорни (2002), А. Мене-гетти (2005), С. Бем (2004), И.Н. Тартаковская (2000) и др.
Ученые рассматривают влияние на гендерную социализацию рекламы, Интернета и СМИ, которые репрезентируют социально нормированные и одобряемые образцы поведения и само-презентации, что закрепляет для мужчин и женщин легитимный дискурс (Тартаковская, 2000). Так, отмечается, что образ женщины подается как зависимый от мужчины, слабый, самореализующийся либо в домашних хлопотах, либо в обеспечении своей привлекательности (Юрчак, 1997). Мужчина же дефинируется как сильный, агрессивный, подчиняющий себе других ради самоутверждения, самодостаточный субъект (Юрчак, 1997). При этом в российской рекламе гендерные образы особенно стереотипизированы и жёстко патриархальны (Кон, 2002).
Проблема гендерной стереотипизации, влияющей на гендерную социализацию личности, характерна не только для СМИ и рекламы. Так, как показали исследования Л.В. Поповой, Т.Б. Котловой, А.В. Смирновой и др., даже школьные учебники транслируют патриархальные представления о роли мужчин и женщин в жизни общества, закрепляя за мужчиной сферу общественной жизни (работа, политика, бизнес), а за женщиной – приватной (дом, семья, дети), препятствуя ее профессиональному развитию, что осложняет условия гендерной социализации и мальчикам, и девочкам5.
Гендер оказывает огромное влияние на формирование Я-образа и Я-концепции человека, в том числе в юношеском возрасте, что с разных сторон исследуется современными авторами (Li et al., 2022; Лучинкина, Сенченко, 2019; Самосадова, Сухарева, 2021).
Исследователями отмечалось, что у мужчин Я-концепция характеризуется большей направленностью на самоактуализацию в творчестве, а Я-образ проявляется преимущественно в сферах «работа», «любовь», «познание» (Андреева, 1998).
Самопрезентируемый образ «Я» женщины, по данным А.В. Визгиной, ориентирован на социальную желательность и отражает прежде всего «Я для других»; женщины чаще в самоописа-ниях прибегают к конструкциям самопреодоления, что показывает низкий уровень самопринятия и близости к себе (Визгина, 2013).
Самопрезентация в современной научной среде рассматривается как поведенческое выражение «образа Я», как часть имиджа (Семенова, 2009). Средством ее реализации становится поведение личности – речевое и невербальное, а также оформление внешнего облика и принадлежащих субъекту социальных символов. Тогда самопрезентацию в виде самонаименования через псевдоним или никнейм в Интернете можно рассматривать в большей мере как способ самовыражения.
Особую роль в этом отношении играет Сеть, которая позволяет человеку создать о себе в цифровом пространстве желаемое впечатление, сконструировать новую идентичность, изменить пол, возраст, внешность. Зачастую женщины представляют себя красотками с рекламы, а мужчины – «суперменами» (Затулий, Бурнаева, 2012). При этом, как показали многочисленные исследования, если в структуре Я-концепции имеет место зрелая личностная идентичность, человек наименее подвержен влиянию гендерных стереотипов, поэтому женщины, имеющие высокий уровень интеллектуального развития, наиболее объективно оценивают себя и наименее зависимы от социального одобрения6.
Исследования гендерных особенностей временной перспективы будущего показали, что юноши формируют свои планы в основном в интервале одного дня и ориентируясь на себя. Девушки, думая о будущем, больше опираются на других людей (Шилова, 2019).
Однако в целом у молодых людей обоего пола представления о будущем совпадают, хотя девушки планируют свою будущую семейную жизнь значительно разнообразнее и ярче (Канищева, 2010).
Современная молодежь стремится выстраивать свой жизненный путь в области самореализации, опираясь на собственные личностные смыслы и приоритеты, в меньшей мере согласуя его с гендерными стереотипами.
Нами было проведено эмпирическое исследование особенностей образа Я у юношей и девушек, студентов 1–3 курсов УлГПУ (180 человек, возраст 17–22 года), обучающихся по разным направлениям подготовки («Физика и математика», «Журналистика», «Педагогика и психология», «Биология и химия»).
Целью работы было выявление особенностей образа Я студентов с разной вербальной самопрезентацией в зависимости от выраженности в ней гендерной стереотипизированности.
Гипотеза исследования заключалась в следующем: существуют различия в образе Я у девушек с гендерно-стереотипизированной и нестереотипизированной вербальной самопрезента-цией, а также между девушками и юношами.
Студенты приняли участие в анонимном тестировании, обозначая себя с помощью произвольно сочиненного псевдонима или «никнейма». Такое самопредставление, отражающее в том числе гендерную самоидентификацию, рассматривалось как показатель гендерной стереотипизированности Я-образа.
В качестве методик исследования использовались: 1) тест М. Куна – Т. Макпартленда «20 утверждений на самоотношение», с помощью которого выявлялась глубина рефлексии, отношение к себе, представленность «физического Я», «социального Я», «рефлексивного Я» и отдельно – «глобального Я» в ответах респондентов, а также «перспективное Я», касающееся мыслей о своем «завтра»; 2) методика мотивационной индукции Ж. Нюттена, при помощи которой с использованием контент-анализа также выявлялись те аспекты представлений о себе, которые касаются будущего: темпоральная локализация целей и жизненных планов (актуальный период, близкое и отдаленное будущее, неопределенное время, «открытое настоящее» (планы по самовоспитанию и самосовершенствованию), историческое будущее народа, страны, человечества) (Нюттен, 2004). Также при помощи обеих методик и контент-анализа определялась содержательность представлений респондентов о себе как отражение преимущественно стандартов потребления (Я как обладатель материальных благ), семейных ролей, профессиональной деятельности («деятельное Я») или всех сфер жизни.
Для того чтобы выявить особенности представлений о себе у студентов с различной вербальной самопрезентацией в зависимости от наличия в ней гендерных стереотипов, мы разделили участников исследования (180 человек) на 3 группы.
В первую из них вошли девушки с нестереотипной (НС) вербальной самопрезентацией (ВСП) (88 человек), обозначившие себя инициалами или такими псевдонимами, которые не выглядят стереотипно «женственными», подчеркнуто инфантилизированными, а звучат нейтрально, например: Ширадо, Алиса, Звезда, Moonshine и т. п.
Вторую группу составили девушки с подчеркнуто гендерно-стереотипизированной (ГС) ВСП (49 человек). Они обозначили себя псевдонимами в подчеркнуто уменьшительно-ласкательной форме (Ленусик, Юленька, Кисюня), использовали для самонаименования персонажей из детской субкультуры (HelloKitty, Масяня, диснеевские принцессы) либо названия цветов (Роза, Ромашка, Маргаритка и т. п.), что является гендерно-стереотипизированным, традиционно феминным. Зачастую респондентки этой группы снабжали свою ВСП дополнительными средствами супра- и метаграфемики: писали или подчеркивали свои псевдонимы розовыми фломастерами, иллюстрировали их дополнительными рисунками в виде «смайликов», цветов и пр.
В 3 группу вошли все юноши. Вследствие их малочисленности (всего 43 человека) и чрезвычайной сложности разграничения их ВСП на гендерно-стереотипизированную и нестереотипи-зированную (поскольку гендерно окрашенный мужской образ в целом ближе к обобщенному образу взрослого самостоятельного человека и субъекта) они не были разделены на соответствующие подгруппы.
При этом мы поставили дополнительную задачу выявить различия в представлениях о себе у студенческой молодежи 2009–2010 гг. (100 чел.) и современного периода (обучающиеся 1–3 курсов, 2021–2022 г., 80 чел.). Это обусловлено тем, что за последние 12 лет в обществе произошли заметные изменения: благодаря соцсетям среди молодежи повысилась популярность движений как за социальное и гендерное равенство, так и отчасти за возврат к патриархальному традиционализму. Глобальные события в начале 2020-х гг. (пандемия коронавируса, украинский кризис) могли оказать дестабилизирующее влияние на представления молодежи о своем будущем.
Соответственно, в нашем эмпирическом исследовании были поставлены следующие задачи:
-
1. Сравнение представлений о себе у девушек с нестереотипизированной ВСП (вербальной самопрезентацией), девушек с гендерно-стереотипизированной ВСП, а также девушек и юношей.
-
2. Сравнение представлений о себе у студентов 2009–2010 гг. и современных обучающихся вузов в каждой из трех групп.
С использованием критерия Манна – Уитни было обнаружено, что:
-
1) в 2009–2010 гг. у юношей было более выражено «глобальное Я» в представлениях о себе, содержащее абстрактные образы (например, «Я часть Вселенной») (р = 0,037), что показывает определенный интерес к абстрактным философским вопросам и рефлексии над своим местом в мире;
-
2) у девушек с НС (нестереотипной) ВСП среди представлений о своем будущем оказались более, чем у ГС девушек (р = 0,046), выражены планы открытого настоящего, связанные с самосовершенствованием, возможно, оттого что стереотипизированное представление о женщине предписывает ей самосовершенствование лишь в ограниченных сферах жизни, таких как внешность, отношения, домашнее хозяйство.
Сравнение по критерию Фишера показало:
-
1) у девушек с ГС ВСП в содержании представлений о себе были больше выражены семейные роли (18,8 % респонденток с ГС ВСП и лишь 2,8 % – с НС ВСП, р < 0,01), что соответствует традиционным представлениям о женской гендерной роли;
-
2) девушки с ГС ВСП в большей мере связывали свое будущее с долгосрочными планами (28,1 % против 8,3 % у участниц исследования с НС ВСП), т.к. эти планы чаще касались семьи, детей, а респондентки с НС ВСП – с самосовершенствованием и саморазвитием (9,4 % против 27,8 %), р < 0,05;
-
3) у юношей в содержании представлений о себе доминировали профессиональная деятельность и карьера (34,4 % против 16,7 % у девушек, р < 0,05), что соотносится с традиционными представлениями о мужской гендерной роли.
В группе современной молодежи (2021–2022 гг.) сравнение аналогичных показателей с помощью тех же статистических критериев позволило обнаружить следующее:
-
1) у девушек по сравнению с юношами более выражено явно позитивное отношение к себе, представляемое в виде эпитетов соответствующей эмоциональной окраски (57,7 % против 27,3 % у юношей, р < 0,05), и менее выражено – противоречивое, что следует из акцентирования респондентками не только положительных своих сторон, но и недостатков (72,7 % – у юношей и 40,4 % – у девушек, р < 0,05). Полученные результаты соответствуют выводам В.В. Столина (Столин, 1983), сделанным еще в ХХ веке, согласно которым самоотношение у женщин менее дифференцированно, что показывает его сравнительную незрелость, поскольку традиционная женская гендерная роль предполагает ориентацию на одобрение других;
-
2) у 9,6 % девушек встречается ограничение содержательности представлений о себе семейными ролями: при ГС ВСП – больше, чем при НС ВСП, р < 0,05, что соотносится с традиционными представлениями о женской роли; у юношей такой тип саморепрезентации не обнаружился вовсе;
-
3) среди девушек с ГС ВСП не обнаружено таких, у которых преобладали бы цели самосовершенствования в представлениях о своем будущем; напротив, среди респонденток с НС ВСП ориентация на личностный рост была выявлена у 17,3 % девушек;
-
4) среди юношей встречаются (9,1 %) самопредставления, ограниченные материальным потреблением (квартира, машина, дача и т. д.); у девушек подобного не обнаружено;
-
5) у 27,3 % юношей, принявших участие в исследовании, было выявлено наличие «глобального Я» среди Я-высказываний, у девушек подобные проявления отсутствовали.
Таким образом, планы самосовершенствования более выражены у девушек с НС ВСП, чем с ГС. Содержательность представлений о себе в большей мере ограничена семейными ролями у респонденток с ГС, чем с НС ВСП, и у девушек больше, чем у юношей. Молодые люди чаще репрезентируют представление о себе с позиции «глобального Я»; они характеризуются более противоречивым самоотношением, чем девушки, что проявляется в большей мере ограничениями профессией и карьерой либо потреблением материальных благ.
С применением критерия Манна – Уитни было выявлено, что:
-
1) для современных девушек с НС ВСП и с ГС ВСП по сравнению с аналогичными группами в 2009–2010 гг. характерен более высокий уровень самоанализа (р = 0,001 и р = 0,019), сильнее выражено «рефлексивное Я» (р = 0,05 и р = 0,001). Возможно, это результат того, что обилие информации в интернет-пространстве создает много разнообразных возможностей для самоидентификации и требует рефлексии. Кроме того, в ответах современных студенток более представлено будущее неопределенного времени (р = 0,002 и р = 0,044), т.е. их планы на будущее
менее конкретны. Возможно, последнее связано с глобальной неопределенностью вследствие последних кризисных исторических событий. При этом при НС ВСП среди участников исследования отмечалась более высокая содержательность (р = 0,005) представлений о себе. При ГС ВСП у современных студентов оказалось больше представлено «глобальное Я» (р = 0,025) и менее – «социальное Я» (р = 0,001); они чаще выбирают цели близкого будущего (р = 0,049), однако имеют слабые представления о своем отдаленном будущем (р = 0,0001), возможно, это также является следствием современной глобальной ситуации;
-
2) у современных юношей по сравнению с их сверстниками в 2009–2010 гг. был также выявлен более высокий уровень рефлексии (р = 0,003), содержательности представлений о себе (р = 0,032), выраженности «рефлексивного Я» (р = 0,029) и «глобального Я» (р = 0,002), меньше представленность «социального Я» (р = 0,003).
Применение критерия Фишера показало, что:
-
1) у современных девушек с НС ВСП более выражены представления о себе, связанные с целостной картиной будущего (80,8 и 55,6 % соответственно, р < 0,05);
-
2) среди сегодняшних обучающихся женского пола с ГС ВСП ни у кого не преобладают планы самосовершенствования и «историческое будущее» (14,9 % – в группе студентов прошлых лет), что подтверждает большую узость их жизненных планов;
-
5) среди современных юношей также чаще встречается преобладание целей и планов неопределенного времени (54,5 %).
Результаты сравнения студентов разных периодов обучения показывают, что у современной молодежи более высок уровень рефлексии, содержательность представлений о себе, однако представления о будущем, возможно, под влиянием текущего исторического момента, стали более расплывчатыми и ограниченными во временном аспекте.
Подводя итог проведенного исследования, необходимо отметить, что гипотеза о наличии различий в особенностях образа Я между девушками с гендерно-стереотипизированной и несте-реотипизированной вербальной самопрезентацией, а также между девушками и юношами доказана: при ГС ВСП у студенток вуза проявляются особенности образа Я, свидетельствующие о его более слабой содержательной наполненности, меньшей направленности на самосовершенствование по сравнению с нестереотипно презентирующими себя участницами исследования. Юноши, в отличие от девушек, чаще репрезентируют «глобальное Я». У них содержательность представлений о себе в большей мере ограничена профессией и карьерой (в 2009–2010 гг.), а также потреблением материальных благ (в современности).
На наш взгляд, комплексная психолого-педагогическая работа со студентами, расширяющая их представления о себе и своем будущем и направленная на преодоление упрощенных гендерно-стереотипизированных самопредставлений, будет способствовать усилению содержательной наполненности образа Я и актуализации у молодежи планов по самосовершенствованию.
Список литературы Особенности образа я студентов с разной вербальной самопрезентацией: гендерный аспект
- Андреева Т.В. Социальная психология семейных отношений. СПб., 1998. 210 с.
- Аносова Н.Н. Гендерная манипуляция в сфере межличностных отношений // Гендерная психология. СПб., 2009. С. 433-443.
- Бем С.Л. Линзы гендера. Трансформация взглядов на проблему неравенства полов. М., 2004. 332 с.
- Визгина А.В. Гендерные особенности процессов самосознания и самоотношения // Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии. 2013. № 29. С. 43-54.
- Затулий А.И., Бурнаева Е.М. Гендерные идеалы: особенности самопрезентации пользователей интернета // Вестник Тихоокеанского государственного университета. 2012. № 1 (24). С. 297-304.
- Знаков В.В. Самосозидание человека - новый этап развития психологии субъекта // Вестник Санкт-Петербургского университета. Психология. 2019. Т. 9, № 2. С. 112-122. https://doi.org/10.21638/spbu16.2019.201.
- Канищева М.А. Гендерные особенности построения образов возможного будущего в юношеском возрасте // Современные направления теоретических и прикладных исследований - 2010. Одесса, 2010. С. 50-52.
- Клецина И.С. Психология гендерных отношений: теория и практика. СПб., 2004. 404 с.
- Кон И.С. История и теория мужских исследований // Гендерный калейдоскоп. М., 2002. С. 188-242.
- Лучинкина А.И., Сенченко В.В. Гендерные особенности восприятия своего физического Я молодежью // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2019. № 12 (178). С. 399-404. https://doi.org/10.34835/issn.2308-1961.2019.12.399-404.
- Менегетти А. Психосоматика: новейшие достижения. М., 2005. 354 с.
- Нюттен Ж. Мотивация, действие и перспектива будущего. М., 2004. 608 с.
- Самосадова Е.В., Сухарева Н.Ф. Гендерные особенности Я-концепции в юношеском возрасте // Проблемы современного педагогического образования. 2021. № 72-4. С. 344-351.
- Семенова Л.М. Генезис и современное состояние проблемы формирования профессионального имиджа // Вестник Томского государственного университета. 2009. № 326. С. 194-199.
- Столин В.В. Самосознание личности. М., 1983. 284 с.
- Тартаковская И.Н. Мужчина и женщина на страницах современных российских газет: дискурсивный анализ // Рубеж. 2000. № 15. С. 168-241.
- Хорни К. Невротическая личность нашего времени. СПб., 2002. 224 с.
- Шилова Н.П. Гендерные особенности формирования временной перспективы будущего в юношеском возрасте // Психолог. 2019. № 5. С. 66-72. https://doi.org/10.25136/2409-8701.2019.5.31066.
- Юрчак А. Миф о настоящем мужчине и настоящей женщине в российской телевизионной рекламе // Семья, гендер, культура. М., 1997. С. 389-399.
- Li J., Liu Y., Song J. The Relationship between Gender Self-Stereotyping and Life Satisfaction: the Mediation Role or Relational Self-Esteem and Personal Self-Esteem // Frontiers in Psychology. Personality and Social Psychology. 2022. Vol. 12. Р. 769549. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.769459.