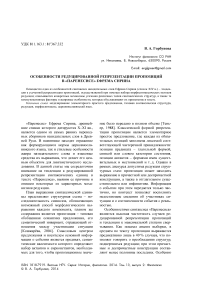Особенности редуцированной репрезентации пропозиций в "Паренесисе" Ефрема Сирина
Автор: Горбунова Виктория Александровна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 2 т.13, 2014 года.
Бесплатный доступ
Освещается одна из особенностей синтаксиса назидательных слов Ефрема Сирина (список XIV в.) – тенденция к усеченной репрезентации пропозиций, осуществляемой при помощи набора морфосинтаксических методов редукции; описываются конкретные механизмы усечения различных типов синтаксических структур, а также те коммуникативные факторы и жанровые особенности, которые обуславливают их применение в тексте.
Моделирование элементарного простого предложения, типовая синтаксическая структура, редукция, морфосинтаксис, церковнославянский язык
Короткий адрес: https://sciup.org/147219021
IDR: 147219021 | УДК: 811.163.1:
Текст научной статьи Особенности редуцированной репрезентации пропозиций в "Паренесисе" Ефрема Сирина
«Паренесис» Ефрема Сирина, древнейшие списки которого датируются X–XI вв., является одним из самых ранних переводных сборников назидательных слов в Древней Руси. В памятнике находят отражение как формирующиеся нормы церковнославянского языка, так и стилевые особенности жанра назидательного слова и языковые средства их выражения, что делает его ценным объектом для лингвистического исследования. В данной статье мы сосредоточим внимание на тенденции к редуцированной репрезентации синтаксических единиц в тексте «Паренесиса», выявим ее причины и опишем некоторые из характерных механизмов редукции.
План выражения синтаксической единицы представляет структурная схема – последовательность символов, обозначающих возможный способ морфологического выражения каждого компонента, планом же содержания является пропозиция – типовая обобщенная семантика предложения, его семантический инвариант, отражающий отношения между участниками ситуации [Кошкарёва, 2004]. Смысловым центром предложения и носителем основной информации о событии является предикат, семантические валентности которого определяют набор актантов и сирконстантов, необходимых для того, чтобы пропозиционное значе- ние было передано в полном объеме [Тень-ер, 1988]. Классической формой репрезентации пропозиции является элементарное простое предложение, где каждая из обязательных позиций заполнена лексемой соответствующей частеречной принадлежности: позиция предиката – глагольной формой, связкой или словом категории состояния, позиции актантов – формами имен существительных и местоимений и т. д. Однако в рамках дискурса допустима редукция структурных схем: пропозиция может находить выражение в причастной или деепричастной конструкции, а также в отглагольном существительном или инфинитиве. Информация о событии при этом передается только частично, но контекст позволяет восполнить недостающие сведения об участниках ситуации и о соотнесенности события с реальностью.
Особенностями синтаксиса «Паренесиса» являются высокая частотность случаев редуцированной репрезентации пропозиций и тенденция к максимальной степени свертывания. Как показал анализ выборки, в среднем по тексту пропозиции выражаются предикативно лишь в 40 % случаев, что позволяет говорить о преобладании структур, подвергшихся редукции; при этом причастные и деепричастные конструкции составляют менее половины последних. Особенно
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2014. Том 13, выпуск 2: Филология © В. А. Горбунова, 2014
многочисленны и разнообразны примеры свертывания синтаксических единиц до именных частей речи, которые на отдельных участках текста образуют целые серии: да не дн 7 ь u бо въздержань i е и кротость . а u трь пьяньство и гордыни . да не дн 7 ь безмолвь i е и бдэнь i е . А u тро молва и сонъ несытенъ и непокореные 1 ‘не воздержанье и кротость один день, а наутро -пьянство и гордыня; не безмолвие и бдение один день, а наутро - молва и неумеренный сон и непокорность > вы не должны воздерживаться и быть кроткими один день, а наутро - пьянствовать и быть гордыми; вы не должны один день безмолвствовать и бдеть, а наутро - разговаривать, много спать и быть непокорными’.
Высокая пропозиционная плотность в сочетании с некоторой смысловой недостаточностью составляет характерную особенность стиля «Паренесиса» и объясняется, прежде всего, тематикой памятника и его предполагаемой целевой аудиторией. Поучения Ефрема Сирина были обращены к монашеству - социальной группе, которой предписывались определенный образ жизни и занятия и которая, вследствие этого, обладала относительно единообразным опытом. Ситуации, описываемые в тексте памятника, рассматриваются как пресуппозитивно известные читателю и, следовательно, легко достраивающиеся даже при отсутствии базовых сведений о локациях и участниках. Кроме того, согласно традициям произведений богословского содержания, текст «Паренесиса» насыщен аллюзиями к прецедентным текстам - Новому Завету, Псалтири, сюжеты из которых также должны были расцениваться писцом как общеизвестные.
Далее мы рассмотрим различные методы свертывания, ограничивая круг примеров именами с пропозиционной семантикой -одной из самых многочисленных и наиболее разнородных групп.
Отглагольные существительные
Согласно вербоцентрической теории предложения, именно сохранение событийной семантики глагола - центрального компонента предложения - принципиально для полноценной передачи плана содержания синтаксической единицы, поэтому свертывание конструкции до отглагольного имени существительного, словообразовательно мотивированного глаголом-предикатом, считается стандартным способом редукции для современного русского языка. В тексте памятника этот механизм также является преобладающим типом непредикатной номина-лизации и применяется универсально, вне зависимости от семантики исходной модели и количества обязательных приглагольных распространителей: сего раД шюяго стоянья осужени быша ‘поэтому [они] были осуждены на стояние слева’ > они были осуждены на то, чтобы они стояли слева (пропозиция местонахождения + каузация); помzну wшествие ‘вспомню об отходе’ > вспомню, что [я] отойду [от земного в Царствие небесное] (пропозиция движения + модус); и не боисz разлученья телеси ‘и не бойся отлучения тела’ > и не бойся, что твое тело кто-то отлучит [от души] (пропозиция перемещения + модус); вы же грэш-нии въ студэ бысте ‘вы же, грешники, в стыде были’ > вы грешны, и вы стыдились (пропозиции характеризации и состояния); несумнэньемь и uдержаниемь обрэте ю ‘верой и удержанием обрел ее’ > он обрел ее, так как не сомневался [в чем-то] и удерживал [ее]; не ботес поношениi члвчскыхъ ‘не бойтесь людских поношений’ > не бойтесь, что люди будут [вас] поносить; нико-лико же мощи имамъ навыкнути ручнаго сего дэла ‘нет у меня никаких сил научиться этому ручному делу’ > у меня нет сил научиться, чтобы я делал [что-то] руками’ (акциональные пропозиции); подобьно же i се iскушаемъ бываеть сотоною своимь невэжьствомь ‘так же и сатаной [некто] бывает искушаем из-за своего невежества’ > сатана искушает кого-то, так как [он] невежественный (пропозиция характеризации); не дасть помысла своего в печали земных7 вещи но токъмо в любовь бию ‘не отдаст своих мыслей в заботы о земных вещах, но только в любовь божью’ > но только в то, что Бог [его] любит (пропозиция эмотивно-го отношения).
Как следует из приведенных примеров, обязательным элементом для свернутых конструкций являются девербативы, заме- щающие предикат, в то время как актанты и сирконстанты получают выражение выборочно, в зависимости от своего коммуникативного статуса, могут появляться не в полном составе или отсутствовать вообще. Так, если конструкция [не дасть помысла своего в печали земных7 вещиi но токъмо] в любовь б7ию в трансформированном виде содержит единственный необходимый для пропозиции состояния глагольный распространитель – субъект (б[ожи]ю), то в примере c пропозицией перемещения и не боисz разлученья телеси из непредикатных позиций субъекта, директива-старта, директива-финиша, трассы, инструмента и объекта заполненной оказывается только последняя. По причинам, освещавшимся раннее, полное устранение предикатных распространителей характерно, прежде всего, для пропозиций, описывающих события, к которым богословская литература обращается наиболее регулярно, с известным распределением ролей и пространственным характеристиками. Лексемы Богъ, дьяволъ, адъ, раи и синонимичные им маркируют подобные ситуации и усекаются при свертывании особенно часто (см. выше примеры помzну wшествие, кдэ взданье iесть).
Субстантивация предиката в тексте памятника, как правило, влечет за собой словообразовательные изменения во всех связанных с ним актантах и сирконстантах: для установления согласовательной подчинительной связи имена существительные, местоимения и наречия трансформируются в прилагательные ( не бо i тес 7 поношени i члвчс 7 кыхъ – субъект люди > человечески i е ; сего рад 7 шюяго стоянья осужени быша – локализатор ошюю > шюе; i скушаемъ бы-ваеть сотоною своимь невэжьствомь – субъект он > свой ). Исключение представляют объекты, которые сохраняют отношения управления с лексемой событийной семантики как в развернутых, так и в свернутых конструкциях и не подвергаются изменениям ( и не боис z разлученья телеси ).
Сложные образования на основании девербативов
Одним из ярких проявлений тенденции к экономии языковых средств в «Паренеси се» является широкое применение словосложения как способа включения в лексему с событийной семантикой дополнительной информации об участниках ситуации. Сложные слова многочисленны в тексте памятника, и только немногие из них, согласно словарным материалам, имеют семантику, не эквивалентную значению, передаваемому соответствующим развернутым словосочетанием. Так, в приведенных ниже контекстах сложные существительные сребро-любьiе, блг7одэяньiе и члв7колюбе выражают обобщенные понятия – ‘корыстолюбие, алчность, жадность’ [Словарь русского языка…, 1975. Вып. 27. С. 131], ‘доброе дело, помощь’ [Там же. Вып. 1. С. 202] и ‘милосердие’ [Срезневский, 1989. Т. 3. Ст. 1490] соответственно: кдэ тогда сребролюбьiе ‘где тогда сребролюбие?’; в млтвэ вашеi и въ блг7одэяньи вашемь ‘в вашей молитве и вашем благодеянье’; похвали ибо члвко-любе iего ‘похвали его человеколюбие > похвали его милосердие’.
Напротив, сложные имена из следующего блока примеров либо получают толкования в виде исходного мотивирующего словосочетания или его части (братолюбьiе – ‘любовь к брату, ближнему’ [Словарь русского языка…, 1975. Вып. 1. С. 323], мьздовъзданье – воздаяние [Там же. Вып. 9. С. 146] и т. д.), либо вообще не находят отражения в словарях, вероятно, по причине нерегулярного употребления в корпусе церковнославянских текстов (похотолюбивыи, uмопогубителi). Слабая включенность этих существительных в лексическую систему церковнославянского языка свидетельствует о том, что они скорее конструируются в процессе свертывания синтаксических структур, чем воспроизводятся как готовые единицы: но uмопогубителi другаго же множицею понудить помыслъ гл7z, рабе лэнивыи похотолюбивыи ‘раб ленивый, похотелюбивый’ > раб ленивый, который любит похоть’; свэдэтель ми iесть серьдце-ведець гс7ь ‘свидетель мне сердцеведец Господь’ > свидетель мне – Господь, который ведает сердца; i братолюбья не възлбилъ iеси ‘и братолюбия не возлюбил’ > и не полюбил того, чтобы любить брать- ев’; и несповэдимо мьздовъзданье ‘и неисповедимо мздовозданье’ > и неисповедимо, какую мзду [Бог] воздаст кому-то; прине-суть бо iему uнынье в малоiе рукодэланье ‘принесут ему уныние в рукоделье’ > сделают так, что он будет испытывать уныние, когда делает что-то руками.
Обилие примеров такого рода позволяет нам заключить, что словосложение регулярно используется в «Паренесисе» как метод структурирования текста: слияние планов выражения имени с предикатной семантикой и одного из предикатных распространителей структурно упрощает предложения и вместе с тем повышает степень их информационной насыщенности. В большинстве случаев редуцированию до основы в составе сложной лексемы подвергаются существительные, занимающие позицию объекта или, реже, инструмента в акциональных пропозициях, однако в выборке был отмечен также и единичный пример инкорпорации в предикат сирконстанта ( землелегание ).
Отадъективные субстантивы
Группу пропозиций, свернутых до имени существительного, которое было образовано путем субстантивации из прилагательного, составляют единичные примеры, многократно повторяющиеся в тексте памятника: паче задн я я забывшее передн я я ст z жа-имъ ‘забыв заднее, обретем переднее’ > забыв то, что [есть] позади, обретем то, что [есть] впереди.
В приведенном контексте представлены пропозиции местонахождения, коммуникативным центром которых является информация о локации, заключенная в сирконстанте, в то время как позицию предиката может занимать семантически пустая связка. При стандартном механизме редукции для сохранения ключевой информации о ситуации при девербативе необходим бы был распространитель с пространственной семантикой (ср. с рассмотренным выше примером сего рад' шюяго стоянья осу-жени быша), однако применение альтернативного метода, при котором объектом но-минализации становится не предикат, а сирконстант, позволяет сократить конструкцию максимально. Процесс словообразовательной трансформации при этом ос- ложняется и становится многоступенчатым: исходное наречие заменяется однокоренным прилагательным, которое затем субстантивируется в форме множественного числа среднего рода. Отличительными особенностями этого метода являются его отнесенность к конкретному типу пропозиций и нерегулярность применения в сравнении со стандартным механизмом непредикатной номинализации. Для разрешения вопроса о его продуктивности в церковнославянской языковой системе необходимо исследование, охватывающее более широкий круг источников.
Существительные,не мотивированные предикатом
Другим способом редукции, сфера применения которого ограничена конструкциями с определенной типовой семантикой (в данном случае акциональной), является свертывание конструкции в существительное, не выражающее пропозиционного значения и занимающее в исходной структуре позицию объекта. Нередко такие лексемы относятся к классу конкретно-вещественных существительных ( книга ), однако могут иметь и более абстрактную семантику ( вещь , привидэные ): испытающес въ кни-гахъ ‘будучи испытанными в книгах’ > будучи испытанными в том, как [читали] книги; наказающе себе въ пслмэхъ и и въ пэсхъ дхвныхъ ‘поучая себя в псалмах и духовных песнях’ > некто поучает себя, читая псалмы и духовные песни; не мирьски боретьс z в житискихъ вещехъ ‘не по-мирскому борется в обыденных вещах’ > не по-мирски борется, [имея / воспринимая / делая] обыденные вещи; побэдивс z съ блженымъ в различных привидэньихъ ‘дьявол был побежден блаженным в привидениях’ > [дьявол] был побежден блаженным, когда [создавал / призывал / использовал] привидения.
Как и в описанном выше механизме свертывания пропозиций местонахождения, предикат в этих конструкциях рассматривается как элемент, несущий в себе факультативную информацию о ситуации, несмотря на свою семантическую полноценность по сравнению со связочными предикатами, характерными для моделей бытийно-про- странственного блока. Низкая коммуникативная значимость предиката может объясняться двумя причинами.
Во-первых, в сознании носителей языка существительное-объект вызывает ассоциации с определенным видом деятельности. Пресуппозитивное знание о том, как используются предметы некоторого класса во внеязыковой реальности, позволяет читателю предположить связь объекта с определенным действием и восстановить, таким образом, информацию о событии, которая не отражается в плане выражения, но подразумевается. Так, в контекстах испытающес 7 въ книгахъ и наказающе себе въ пс 7 лмэхъ лексемы книга и псаломъ могут быть соотнесены с действиями, обозначаемыми глаголами читати и пэти , как в наибольшей степени соответствующими прямому, общеизвестному назначению книги и псалма.
Во-вторых, объект является коммуникативным ядром высказывания, актуальна именно информация о факте его наличия в ситуации наряду с субъектом, вне зависимости от того, какое воздействие стало результатом их взаимодействия. Такой коммуникативной структурой обладают высказывания мирьски боретьс z в житискихъ вещехъ (субъект вступает в контакт с предметами, которые характеризуются как мирские, что накладывает отпечаток на его душевное состояние, детали их взаимодействия не имеют значения) и побэдивс z съ блж 7 енымъ в различных 7 привидэньихъ (подчеркивается то обстоятельство, что в борьбе со святым дьявол прибегал к помощи привидений, но все-таки потерпел поражение).
Таким образом, анализ конструкций, подвергнувшихся редукции, в тексте «Паре-несиса» подводит нас к ряду выводов об особенностях репрезентации синтаксиче- ских единиц в памятнике. Высокая частотность полусвернутых и, в особенности, свернутых пропозиций по сравнению с развернутыми свидетельствует о выраженной тенденции к экономии языковых средств, обусловленной тематической спецификой памятника, его органической связью с христианскими прецедентными текстами. Процессы непредикатной номинализации протекают не единообразно, но в соответствии с коммуникативной организацией и типовой семантикой конструкций – в общей сложности по выборке было выявлено четыре основных механизма свертывания до именной словоформы, три из которых применяются в тексте регулярно. Многообразие типов редуцированной репрезентации пропозиций позволяет применять свертывание в качестве инструмента информационного структурирования текста.
Список литературы Особенности редуцированной репрезентации пропозиций в "Паренесисе" Ефрема Сирина
- Кошкарёва Н. Б. Пропозиция и модель (на материале предложений перемещения в языках Сибири) // Гуманитарные науки в Сибири. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2004. Вып. 4. С. 70-80
- Теньер Л. Основы структурного синтаксиса. М.: Прогресс, 1988