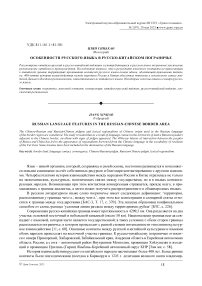Особенности русского языка в русско-китайском пограничье
Автор: Цзян Синьхао
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Всероссийская студенческая научно-практическая конференция «Русский язык – язык Победы»
Статья в выпуске: 2 (97), 2025 года.
Бесплатный доступ
Рассмотрены китайско-русский и русско-китайский пиджины и употребляющиеся в русском языке пограничья лексические регионализмы китайского происхождения. Исследование выявило, что в результате языкового контакта на прилегающих к китайской границе территориях проживания носителей русского языка возник идиом, обладающий признаками пиджина. 400-летняя история взаимодействия между народами России и Китая обусловила появление в лексическом запасе жителей Дальнего Востока регионализмов, заимствованных из китайского языка. Некоторые лексемы вошли в словари русского языка.
Пограничье, языковой контакт, конвергенция, китайско-русский пиджин, русско-китайский пиджин, лексический регионализм
Короткий адрес: https://sciup.org/148330733
IDR: 148330733 | УДК: 811.161.1+81.581
Текст научной статьи Особенности русского языка в русско-китайском пограничье
№ 2(97). 20 мая 2025 ■
Язык - живой организм, который, сохраняясь в своей основе, постоянно развивается и пополняется новыми единицами за счёт собственных ресурсов и благодаря контактированию с другими идиомами. Четырёхсотлетняя история взаимодействия между народами России и Китае отразилась не только на экономических, культурных, политических связях между государствами, но и в языках контактирующих народов. Возникающая при этом контактная конвергенция отражается, прежде всего, в примыкающих к границе диалектах, а затем может получить распространение и в общенародных языках.
В русском литературном языке слово пограничье имеет следующую дефиницию: ‘территория, расположенная у границы чего-л., между чем-л.’, при этом все иллюстрации в словарной статье относятся к границе между государствами [БАС-3, Т. 17, с. 370]. Эта лексема образована конфиксальным способом от слова граница ‘условная линия раздела между территориями; рубеж’ [БТС, с. 226].
Современная русско-китайская граница имеет протяженность в 4209,3 км. Она разделяется на два участка: основной восточный и небольшой западный (около 50 км). Национальная граница всегда совпадает с языковой, которая часто является государственной; в таких условиях с обеих сторон границы располагается пограничье, в котором происходит с разной степени интенсивности этнолингвокультур-ное взаимодействие [11, с. 60]. Основные контакты между русской и китайской культурами и языками обоих народов происходят на восточной участке границы. К русско-китайскому пограничью относятся с севера Приморский, Хабаровский, Забайкальский края, Амурская область и Еврейская автономная область России, а с юга - автономный район Внутренняя Монголия, провинция Хэйлунцзян и входящий в провинцию Цзилинь (Гирин) Яньбянь-Корейский автономный округ КНР [Там же, с. 58].
История взаимодействия русского и китайского народов насчитывает более 400 лет. Более ранние контакты были эпизодическими (поездка в Каракорум в 1245 г. делегации великого князя владимир- ского Ярослава Всеволодовича, присутствие русских воинов в императорской гвардии хана Хубилая в 1267 г. [10, с. 14]) и не отразились ни в языках, ни в культурах. В 1618 г. первое русское посольство, возглавленное томским казаком Иваном Петлиным, посетило Пекин, что можно считать первыми официально установленными дипломатическими отношениями между двумя странам [Там же, с. 15]. В 1689 г. был подписан Нерчинский договор, впервые определивший границу между двумя государствами, в Нерчинске начала развиваться приграничная торговля. В 1860 г. после подписания Айгуньского и Пекинского договоров Уссурийский край стал частью Российской империи, с этого времени окончательно сложилась территория русско-китайского пограничья, которая существует и по настоящий момент. Ещё одно значительное событие в истории взаимодействия России и Китая, русских и китайцев – строительство Китайской Восточной железной дороги (КВЖД).
Языковое взаимодействие живущих по обе стороны границы народов обычно проявляется в заимствованиях. Ни один из языков мира не избежал включения в свой лексический состав заимствованных единиц. Однако интенсивность контактов в пограничье может привести к возникновению особого идиома – пиджина. В.А. Виноградов определяет этот языковой феномен как «структурнофункциональный тип языков, не имеющих коллектива исконных носителей и развившихся путём существенного упрощения структуры языка-источника; используется как средство межэтнического общения в среде смешанного населения» [1, с. 374]. Е.В. Перехвальская уточняет определение термина пиджин : «редуцированный идиом, не имеющий коллектива собственных носителей, часто не воспринимающийся самими говорящими как язык; он служит вспомогательным средством коммуникации, спонтанно возникающим в стандартных коммуникативных ситуациях» [9, с. 6].
Сам термин возник в Африке, он является искажённым произношением английского слова business ‘дело, бизнес’; в названии отражена суть этого идиома - его используют для деловой коммуникации в ходе предпринимательской и торговой деятельности. Пиджин складывается путём соединения в идиоме элементов и явлений двух языков: субстрата (языка коренного населения, вступающего в контакт с пришельцами) и суперстрата (обычно одного из европейских языков). Пиджин - временное языковое состояние: по мере овладения коренным населением языком-суперстратом и включения его в коммуникацию с пришельцами необходимость в нём отпадает. Если же пиджин становится родным языком для какой-то части народа, он превращается в креольский язык [3], приобретает нормативность, становится языком литературы, прессы, официального употребления.
По обеим сторонам границы в разное время функционировали китайско-русский и русско-китайский пиджины или идиомы, близкие к пиджину. В первом случае языком-субстратом был китайский, в который проникали единицы русского языка-суперстрата, им пользовались в основном китайцы при торговых контактах с русскими, но и русские могли использовать его при коммуникации с китайцами. Во втором случае в русском языке (диалекте)-субстрате возникали новые лингвальные явления и процессы под влиянием китайского языка.
Е.А. Оглезнева выделяет разные территориально-хронологические варианты русско-китайского пиджина: 1) Маймачинское (Кяхтинское) наречие в XVIII-XIX веков. В 1729 г. был подписан Кяхтинский договор, который упорядочивал русско-китайскую торговлю в Кяхте и Маймачине. По мере развития пограничной торговли и обеспечения потребностей коммуникации между русскими и китайскими купцами появился кяхтинский пиджин, который был создан на основе русского языка, но одновременно отражал особенности китайского языка; 2) Русско-китайский пиджин на Дальнем Востоке в конце XIX - начале XX веков. Его характерными языковыми особенностями было тяготение предиката к концу предложения, отсутствие словоизменения глагольных словоформ, а также редуплицированные словоформы, представляющие собой соединение двух одинаковых слов для усиления семантики ( мало-мало ) или двух разных слов ( фанза-ловушка ) [4, с. 34]; 3) Русско-китайский пиджин 20-30-х годов XX в.; 4) Харбинский вариант русско-китайского пиджина в первой половине XX в. [8, c. 167].
Подробно охарактеризовал китайско-русский пиджин Дальнего Востока 20-х гг. ХХ в. С. А. Врубель (1904–1949) в статье «Русско-китайские языковые скрещения» (1931). Этот учёный родился в Харбине, видимо, его отец, поляк по национальности, был одним из строителей КВЖД или работал на этой железной дороге. Затем С.А. Врубель некоторое время находился на Дальнем Востоке, где записал примеры пиджина (в терминологии автора – скрещения). Он отмечает: «Обычно повелительная форма глагола употребляется ими (китайцами. – Ц. С. ) в значении изъявительного наклонения, но без согласования во времени, числе, лице, роде и т. д.» [2, с. 135]. Автор обращает также внимание на совпадение в пиджине личных и притяжательных местоимений, правда, понимает это в свете яфетидоло-гии неверно: «В выражении “мая сама делай не магу” (я сам не могу сделать) “мая” есть отражение в китайском мышлении, быть может, ныне забытое, того, что “я” и “мы” одно и то же, именно то, что мы встречаем в других языках и что освещено яфетидологией, когда “мы” как коллектив в ходе исторической жизни с появлением частной собственности, стало восприниматься как “я”» [Там же, с. 135]. В китайском языке личные и притяжательные местоимения различаются прибавлением к последним слогоморфемы Й : ^ (ni) ‘ты’ - ^Й (nide) ‘твой’, Й (wo) ‘я’ - ЙЙ (wode) ‘мой’. На неразличении местоимений построена известная фраза «Моя твоя не понимай» (Я тебя не понимаю), которая используется в русском шутливом тексте для имитации иноязычной речи. Считается, что она возникла в речи кяхтинских купцов, а затем благодаря продаже чая на ярмарках распространилась по всей России. В настоящее время эта фраза встречается в интернет-поэзии, вышли сборник анекдотов и книга некоей писательницы Аксюты Янсен с таким названием.
Из пиджина лексемы могут переходить в общенародный язык, сохраняя в семантике особенности исходного значения русского слова. При этом, учитывая значительное несходство русской и китайской фонетических систем, преобразования единиц могут быть столь существенными, что необходим специальный анализ для установления родства слов: 伏特加 (fútèjiā) ‘водка’ [РККРС, с. 20] , ^SW (bulap) ‘платье’ [РККРС, с. 94], ^^ (lubu) ‘рубль’ [КРС, с. 582]. В ряде слов допускается добавление к исходной русской основе сематической морфемы китайского языка: ^^Ж (malrnguo) ‘малина’ < 马林 (mǎlín) + 果 < 水果 (shuǐguǒ), 果 (guǒ) ‘фрукты’ [РККРС, с. 62]; 苏泊汤 (sūbótāng) < 苏 泊 (sūbó) + 汤 ( tānɡ). В сложных словах возможен перевод одной из частей на китайский язык: 嘎 斯匠 (gāsījiàng) ‘газосварщик’ < 嘎斯 (gāsī) ‘газ, газовый’ + 匠 (jiàng) ‘мастер’. Входя в китайско-русский пиджин, некоторые русские слова записываются традиционными китайскими иероглифами, в которых отражается лингвокультура народа и отмечается качество именуемого объекта: машина > Ц 神 (mǎshén) < 马 (mǎ) ‘лошадь’ + 神 (shén) ‘волшебный, божественный’ [5, с. 350].
В конце 1950-х гг. из-за ухудшения отношений между Китаем и Россией и повышения коммуникативного статуса английского языка в стране харбинский китайско-русский пиджин утратил свою коммуникативную функцию в Китае [4, с. 37]. Однако несколько слов из этого пиджина вошли в словарный запас китайского языка и в настоящее время используются в повседневной коммуникации.
Е.А. Оглезнева полагает, что в настоящее время существует русско-китайский пиджин на территории Забайкалья и Дальнего Востока [8, с. 167]. Трудно, однако, установить, действительно ли сложился самостоятельный идиом на данной территории или мы имеем дело с заимствованиями из китайского языка в речи носителей местных диалектов. Ранее, анализируя те же примеры, исследователь определяла данный лингвальный феномен как региолект: «Все приведенные нами факты могут служить доказательством регионально обусловленной специфики русской речи в Дальневосточном регионе и позволяют говорить о существовании дальневосточного региолекта как одной из форм языкового бытия» [6, с. 136; 7].
Каждая диалектная территория содержит в лексическом запасе единицы, характерные только для данной группы народа. Они входят в словари местных говоров, которые в настоящее время изданы в большинстве регионов России. В этих лексиконах отмечены также слова и фраземы, появление которых обусловлено межэтническим взаимодействием, заимствованием лексем и фразеологизмов у контактирующего народа. Их принято называть регионализмами: «Регионализм – это местное слово или выражение, бытующее на определенной территории; лексическая единица, заимствованная из другого языка, но используемая только на определённой территории - в зоне контактирования языков» [ССТ, с 181].
В российско-китайском пограничье выделяются регионализмы китайского происхождения, которые можно разделить на несколько групп.
-
1. Давние заимствования из китайского языка, вошедшие в русский литературный язык (иногда через посредничество других языков), но в пограничье сохраняющие связь с языком-источником и имеющие связанные с этим коннотации: чай ‘1. Вечнозелёное дерево или кустарник семейства чайных, листья которого используются для приготовления питья. 2. Особо обработанные и высушенные листья этого растения, служащие для приготовления ароматного тонизирующего напитка’ [БТС, с. 1466]; < 茶 (chá); женьшень ‘дальневосточное многолетнее травянистое растение семейства аралиевых, корень которого используется в медицине’ [Там же, с. 303] < A^ (renshen); гаолян ‘хлебный злак с высоким стеблем и широкими листьями, разновидность сорго’ [Там же, с. 194] < 高梁 (ɡāoliánɡ); ханшин ‘китайская хлебная водка’ [Там же, с. 1439] < 白酒 (báijiǔ); хунвейбины ‘члены молодёжных отрядов, созданных для борьбы с противниками Мао Цзедуна во время проведения “культурной революции”’ [Там же, с. 1456] < 红卫兵 (hóngwèibīng) «Красная гвардия». Некоторые из китаизмов не вошли в современный словарь, они представлены в более ранних изданиях: фáнза ‘китайское или корейское жилище сельского типа’ [БАС-1, Т. 16, стб. 1243] < Й^ ( fangzi); хунхуз ‘участник шайки бандитов, грабителей (в феодально-буржуазном Китае)’ [БАС-1, Т. 17, стб. 527] < 红胡 子 (hónghúzi) «краснобородый»; ханжа ‘китайская неочищенная хлебная водка; ханшин’ [Там же, Т. 17, стб. 28, 30] < 白酒 (báijiǔ). В современном словаре приведено слово фанзá ‘китайская шёлковая материя, напоминающая тафту’ [БТС, с. 1416] < 纺绸 (fǎnɡchóu), которое в настоящее время устарело и является, видимо, историзмом. Обратим внимание на то, что лексемы фáнза ‘жилище’ и фанзá ‘ткань’ отличаются местом ударения.
-
2. К собственно регионализмам относятся слова китайского происхождения, которые не вошли в состав литературного языка, известным только в пределах русско-китайского пограничья: куня ‘девушка, молодая женщина’; ни хао ‘китайское приветствие: здравствуйте’; сесе ‘китайское выражение благодарности: спасибо’; камбэй ‘предложение выпить до дна алкогольный напиток’; кан ‘лежанка’; фуюань / фувуюань ‘обслуживающий персонал в гостинице, ресторане’; хао ‘китайское оценочное слово: хорошо’; чисанчи, тисанчи ‘название блюда китайской кухни из баклажанов, картофеля и зелёного перца’; чифан ‘китайская еда, блюда китайской кухни’ [7]. В речи происходит семантическое развитие прежних заимствований: фанза ‘квартира невысокого качества’, а также сокращение слова: хана ‘китайская неочищенная хлебная водка’ <ханшин . Появляются глаголы, образованные от китаизмов: чифанить ‘есть китайскую еду, блюда китайской кухни’.
-
3. В регионе под влиянием китайского произношения русских слов используются особые формы обращений к собеседнику: друга ‘обращение к лицу китайской национальности на рынке или в сфере услуг’, капитана ‘обращение к начальнику’, мадама ‘обращение к женщине’ и др. [13, с. 25–26]. Эти вокативы могут использоваться в шутливо-ироничном контексте при общении русских людей друг с другом.
Итак, в русско-китайском пограничье в разное время по обе стороны границы существовали и существуют особые лингвальные феномены, обладающие признаками пиджина. Китайцы под влиянием русского языка включали в свою речь слова русского происхождения, существенно преобразуя их, приспосабливая к особенностям фонетики родного языка. Впоследствии некоторые из этих лексем вошли в китайский литературный язык. В русском языке имеются давние и новые заимствования из китайского языка, которые в пограничье обретают новые коннотации и становятся основой для дериватов. Наконец, под влиянием русскоязычного узуса китайцев в местном говоре функционируют специфические формы обращений к различным лицам.
Словари
БАС-1 – Словарь современного русского литературного языка в 17 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948–1965.
БАС-3 – Большой академический словарь русского языка. Т. 1–27. М.; СПб.: Наука, 2004–2021.
БТС – Большой толковый словарь русского языка / сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов. СПб.: Норинт, 1998.
КРС – Китайско-русский словарь. 2-е изд. / глав. ред. Ся Чжуни. Пекин: Шанъуиньшугань, 2004.
РККРС – Русско-китайский и китайско-русский словарь. 3-е изд. М.; Пекин: Шанъуиньшугуань, 2001.
ССТ – Словарь социолингвистических терминов / глав. ред. Е.М. Василевич. М.: Ин-т языкознания РАН, 2006.