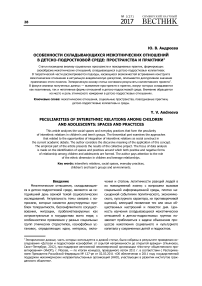Особенности складывающихся межэтнических отношений в детско-подростковой среде: пространства и практики
Автор: Андреева Юлия Витальевна
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Факультету культуры и искусства Ульяновского государственного университета - 20 лет
Статья в выпуске: 1 (27), 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу социальных пространств и повседневных практик, формирующих своеобразие межэтнических отношений, складывающихся в детско-подростковых коллективах. В теоретической части рассматриваются подходы, касающиеся возможностей встраивания конструкта межэтнические отношения в актуальную академическую дискуссию, описывается дискурсивное значение применения этого понятия. Эмпирическую основу статьи составили результаты коллективного проекта1. В фокусе анализа полученных данных - выявление пространств и практик, вокруг которых складываются как позитивные, так и негативные формы отношений в детско-подростковой среде. Внимание обращается на место и роль этнического измерения в детско-подростковых отношениях.
Межэтнические отношения, социальные пространства, повседневные практики, детско-подростковые коллективы и среды
Короткий адрес: https://sciup.org/14114234
IDR: 14114234
Текст научной статьи Особенности складывающихся межэтнических отношений в детско-подростковой среде: пространства и практики
Межэтнические отношения, складывающиеся в детско-подростковой среде, являются на сегодняшний день важной темой социологических исследований. Актуальность темы связана с вопросами, которые касаются дискутируемых проблем толерантности, бесконфликтного сосуществования, миграции, проблематизируемых как остроактуальные в государствах всего мира; с особенностями проявления у разных социальных групп этнических стереотипов, ксенофобных установок, определяющих идеи, интересы, вклю- чения и степень легитимности реакций людей в их повседневной жизни; с вопросами вызовов социальной информационной среды, плотно насыщенной событиями политического, экономического, культурного характера, их противоречивой оценкой, влекущей появление тех или иных общественных настроений и повесток дня. Ценность изучения складывающихся межэтнических отношений в детско-подростковых группах позволяет приблизиться к задаче объяснения процессов накопления социального и культурного капитала у современных детей и подростков.
Теоретические подходы
В ряде ведущих исследований, касающихся главным образом изучения образовательной сферы, отмечается, что жизненные притязания учащихся опосредованы их социальным происхождением [6—8]. Накопленный семейный (родительский) капитал оказывается одним из ключевых факторов, определяющих как образовательные достижения, так и будущий жизненный успех ребенка. В его содержании — этнич-ность, этническая самоидентификация наряду с такими показателями, как класс (социальная позиция), стиль или гендер, оказывается важной составляющей и выступает либо как ресурс, либо как препятствие для его накопления.
Вместе с тем в социальной психологии давно изучено влияние на индивидуальные установки и мотивацию деятельности личности в целом таких феноменов, как социальная фасси-литация, социальное сравнение, воздействие референтных групп и авторитетов, — все эти психологические механизмы также, в свою очередь, формируют самоотношение личности, влияют на её представление о собственных способностях и задают определенный уровень притязаний. Горизонтальные связи (дружеские, школьные компании, круги общения со сверстниками) имеют значительную влиятельную способность в определенных социальных ситуациях и могут компенсировать негативное влияние недостаточности у семьи социального, культурного и экономического капитала [2]. То есть влияние друзей, ровесников, одноклассников (горизонтальных кругов общения подростка) может порой оказаться сильнее влияния родителей, так как установки и притязания — это то, что складывается в социальных отношениях и является результатом взаимодействия с социальным окружением. Роль фактора этничности в отношениях, которые складываются в детско-подростковых коллективах, рассматривается, как правило, в контексте этнической инаково-сти, дискриминационных практик и уязвимости, ксенофобных установок, языковых трудностей и адаптационных возможностей (в последнем случае речь идет о детях с опытом миграции).
Что касается межэтнических отношений, то их изучение в теоретико-методической литературе принято из двух перспектив: исследование межгрупповых и межличностных отношений. Указывается, что отношения, помимо уровней — личностного и группового, как многоуровневая система содержат также внутреннее и внешнее направления. Личностный уровень складывается из отношений между индивидами, принадле- жащими к одной этнической группе, и отношений между индивидом, с одной стороны, и другим и/или другой этнической группой — с другой. Групповой уровень — отношения между субгруппами, принадлежащими к одной этнической группе, и отношения между двумя и более этническими группами [3]. В исследованиях акцентируются культурные различия, известны теории межличностных привязанностей, взаимозависимости, обмена ресурсами, но главным образом межгрупповые отношения рассматриваются контекстуально. Отношения также принято рассматривать в динамике, например, как систему, развивающуюся по определенным фазам, в экономическом аспекте, как цикличную структуру, в контексте взаимоотношений меньшинства и большинства, во взаимосвязи с концептом «этническая идентичность». Под последней понимается состояние, определяемое включенностью в группу культурного происхождения, тенденцией ассоциировать себя с этой этнической группой, тенденцией дифференцировать себя от собственной этнической группы. Стоит отметить, что внимание в первую очередь обращается на проблемный характер межэтнических отношений, тогда как в аспекте выстраивания и поддержания конструктивных межэтнических коммуникаций современных исследований насчитывается не слишком много.
Задача понимания характера межэтнических отношений, складывающихся среди детей и подростков, обращает наше внимание на исследования отдельных форм, в которых могут проявляться разные отношения на определенных этапах своего развития. Например, иерархические и неиерархические этнические системы, в рамках которых возникают характерные формы межэтнического взаимодействия, среди форм выделяют конфликт и адаптацию, для объяснения разных форм построения межэтнических отношений используют понятия «комплимен-тарность», «конформность», формы межэтнического взаимодействия определяются социальным статусом этнической группы, форму может задавать направление ассимиляции и т. д. Несмотря на многообразие описаний, тем не менее по отдельности эти теории не дают полного представления об особенностях детско-подростковых взаимодействий с учетом этнических аспектов и их значения для этой группы. Пестрота, сложность и парадоксальность случаев складывающихся межэтнических отношений в детско-подростковой среде, когда на равных присутствуют как ксенофобные, так и толерантные мотивы, направленные на одни и те же группы и личности, заставляют нас задаться вопросом об аутентичных основаниях выстраиваемых ребятами межэтнических отношений, которые мы попытались выявить, проанализировав практики и пространства в детско-подростковой среде.
Методы и описание эмпирических данных
Как уже было упомянуто, в данной статье используется лишь часть эмпирических данных, собранных в результате реализации коллективного проекта «Детская и подростковая ксенофобия: от скрытой напряженности до открытой вражды». Сбор данных проводился в городах Ульяновске и Санкт-Петербурге в 2012 году. Методы исследования: в рамках проекта была применена комплексная методология. Проводился количественный опрос школьников 10— 11 классов в Ульяновске и Санкт-Петербурге, а также лейтмотивные интервью со старшеклассниками и фокус-группы с детьми и подростками 5—6 и 10—11 классов. Кроме этого, был проведен ряд экспертных интервью с учителями, педагогами, руководителями детских клубов и секций. Данная статья подготовлена лишь на материалах детских интервью и фокус-групп с иноэтничными школьниками, ребятами из смешанных семей и теми, для которых русский язык — родной. В каждом городе интервью и фокус-группы проводились отдельно для учащихся старшей и средней школы, отдельно для иноэтничных ребят, школьников из смешанных семей и тех, для кого русский язык является родным.
Пространства и практики межэтнического взаимодействия в детско-подростковой среде
Разные социальные группы, в том числе и детские, подростковые, редко обозначают себя, артикулируя свою позицию в социуме как позицию, связанную с каким-то особым этническим опытом. Потому что если этнические, национальные, культурные различия не проблемати-зируются в силу определенных факторов (как внешних, так и внутренних) самими субъектами, то они просто не актуализируют их. Проблема появляется, когда они объективируются (когда их специально называют, указывают на них) и когда носитель различий превращается из субъекта в объект. В качестве такого объекта могут выступать как отдельные индивиды, так и номинируемые, маркируемые в категориях «особого» социальные группы и личности. Потому в контексте отдельно взятой социальной ситуации или конкретного бытового случая этническому аспекту может приписываться влиятельная способность как самим субъектом, так и тем, кто из субъекта конструирует объект. Но, с другой стороны, для конвенционального большинства всегда находится некто, кого «нормативно объективируют». Дети и подростки также почти всегда стараются выстроить себя вместе с большинством. У «взрослых» в связи с этим появляется популярный сегодня «толерантный» дискурс: «мы (конвенциональное большинство) то-лерантны и должны научить их (этническое меньшинство) быть тоже толерантными». В такой риторике проблема межэтнического общения освещается сегодня в официальных документах и программах, которые представляют собой некие нормативные правила, которые лишь закрепляют дискриминацию «другого». В дискурсах экспертов и родителей в нашем исследовании встретился лишь один случай, где подобная логика была подвергнута сомнению. Педагог еврейской школы предположила, что «если только дети с чем-то столкнутся, то у них это будет (интерес) и значит, они будут об этом говорить». Все остальные — будь то тренер детской спортивной секции или председатель национальной общины — с безусловной верой в самоочевидность этнического конструирования воспроизводят сходные между собой артикуляции объективирующего дискурса, закрепляющие отличность большинства «местных ребят» от групп «этнических иных». Факт объективации может указывать на скрытые социальные противоречия, бытовую напряженность, негативный опыт индивидуальных биографий экспертов. Но тем не менее это противоречие выявлено. Опасность этих установок не только в том, что они воспроизводят практику объективации по этническому признаку в детской среде и транслируют негативный паттерн, их глобальная социальная сущность в том, что, нормализуясь, они могут быть оправданием для насилия. В представлениях и в языке закрепляется алгоритм: пока субъектность другого не очевидна, любых «иных» можно не замечать, не обращать на них особого внимания, но если происходит столкновение интересов, то «инако-вость» может быть объяснена скорее всего через этнические категории.
В детских группах, в отличие от взрослых, например, этнический фактор в идентификации другого может актуализироваться, возникнуть, когда вдруг обнаруживается нечто, чего не наблюдалось в окружении ребенка ранее, — и это не может быть (в силу языковых особенностей или как-то еще) объяснено языком, оперирующим иными понятиями, кроме этнических, тогда соответствующий вопрос будет подобран из того арсенала, что у него имеется, если это будет сформулировано языком, воспроизводящим этнические стереотипы.
Итак, вокруг чего возникают и складываются негативные и позитивные формы отношений в детско-подростковой среде? Каково место эт-ничности для формирующихся взаимосвязей между детьми и подростками?
Представим для начала общую картину пространств детско-подростковых отношений. Она создана с опорой на ряд оснований, по которым выделялись различные типы детско-подростковых межэтнических отношений. Они выступили в качестве индикаторов выделенных типов (см. табл. 1). Внутри каждого из представленных здесь типов отношения могут быть еще более детализированы с учетом артикуляционных форм самих участников исследования и контекстов их говорения о собственном опыте. Как видно, основания для общения выстраиваются по ценностному принципу, а конструктивные и негативные формы являются соотносимыми между собой в «обратной логике». То есть негативные типы отношений являются почти зеркальным отражением конструктивных типов детско-подросткового общения с той лишь разницей, что конструктивные формы содержат большую детализацию и, следовательно, больше вариантов.
Негативные и конструктивные формы отношений выстроены в соответствии с наполняемостью каждого типа отношений по восходящему принципу снизу вверх по частоте упоминаний. То есть, например, число упоминаний и нарративов, характеризующих формы конструктивных отношений, определяемых местом и территориальной солидарностью , встречается в интервью очень часто, а возможность совместных путешествий — единичные упоминания — несколько раз в двух интервью. В случае с негативными формами взаимодействий чаще упоминаются их репрезентационные основания: несимпатичный, неэстетичный, непривычный внешний вид и вызывающее, «дерзкое» поведение — повод к отказу от коммуникации, менее всего — спортивные разногласия , что не удивительно, поскольку спортивная солидаризация — далеко не последнее основание для производства пространства дискурсов о конструктивных межэтнических отношениях в детской и подростковой среде.
Таблица 1
Пространства и практики межэтнических отношений детей и подростков
|
Негативные формы отношений |
Конструктивные формы отношений |
|
Спортивные разногласия |
Возможность путешествовать вместе |
|
Незнание иностранного языка |
Взгляды на брак |
|
Социальные сети |
Любовь |
|
Политические взгляды, предпочтения |
Карьерная направленность |
|
Религиозные разногласия |
Совместные праздники |
|
Общая культура |
Религиозные основания |
|
Место, территория |
Солидарности достижений и познавательные солидарности |
|
Семейная трансляция |
Субкультурные солидарности |
|
Драки |
Музыкальные вкусы |
|
Этнические разногласия |
Знание языков |
|
Гендерные основания |
Эстетические основания |
|
Бытовые столкновения |
Помогающие отношения |
|
Школьные конфликты |
Гендерный принцип |
|
Намеренные негативные воспроизводства |
Этнические основания |
|
Репрезентативные основания |
Социальные сети |
|
Игровые практики |
|
|
Семейный опыт |
|
|
Адаптационная неизбежность |
|
|
Спортивная солидаризация |
|
|
Общие интересы |
|
|
Дружеские контакты |
|
|
Траектория социализации |
|
|
Место, территориальная солидарность |
Если внимательнее остановиться на типологии конструктивных форм общения и выделенном в качестве основания для построения отношений пространстве «территория», это тоже, в общем-то, не вызовет удивления. Круги общения, как правило, складываются и зависят от того, чему именно, какому занятию посвящена большая часть времени у детей и подростков. Как структурированы та сфера или те сферы, которые их занимают в настоящий момент, где сосредоточено внимание? Таких сфер может быть одновременно одна, две, три и больше, и основные контакты и коммуникации происходят именно там. Также общение опосредовано траекторией социализации детей и подростков. Упомянув о связке места (территории) и траектории социализации, невозможно не учесть институциональную площадку, определяющую детей и подростков. Общение, особенно в этом возрасте, конституируется школьным порядком. Школьная среда — это основная территория — в буквальном и символическом смыслах, где коммуницируют дети. Из одноклассников, школьных друзей и знакомых из параллельных классов обычно складываются компании в младшем, среднем и в более старшем возрастах школьного обучения. Иногда этнический фактор не имеет видимого отношения к формирующимся типам детско-подросткового общения, например, когда класс делится на несколько «смешанных» компаний:
Интервьюер: Ваш класс делится на компании?
Респондент: Да, делится. Там у нас есть мальчики, которые вообще… это просто сумасшедший дом (смеется), они могут… ну, у них такие темы, что нам не понять… не то, что нам не понять, у них как-то шуточки свои.
Интервьюер: Что за шуточки?
Респондент: Не знаю, они какие-то там… не то, что глупые, они просто… у них шутки какие-то плоские для меня, не знаю (смеется), для всех остальных тоже. Они поделились там на четыре человека и там тусуются вместе.
Интервьюер: То есть у вас 16 человек в классе, из них четверо парней, которые глупо шутят?
Респондент: Да. А втроем мы, потом еще там пять человек где-то девочек, которые там… Вот, потом еще две, ну, которые новенькие…
Интервьюер: Вот класс и кончился?
Респондент: Да. Как бы у нас мало (Санкт-Петербург, девушка, 14 лет, инт. № 47).
Кроме того, в примере общение обусловливает феномен, который был описан еще Полом Уиллисом, — это феномен школьной и антишко-льной культур, когда успех школьников зависит от того, какой из типов школьных культур является в учреждении образования доминирующим и какая культура будет принята новичками [9].
Но сегодня ситуации в школах еще более непростые, потому как за условное лидерство могут соревноваться не только две когорты школьных «плохишей» и «умников». Школьная среда отражает полифонию значительного числа молодежных культур, привнесенных в школу извне, и детских компаний, их воспроизводящих. Это разнообразие — от представителей, эксплуатирующих элементы классических моло- дежных субкультур, аниме, хипстеров, «мажоров», «гламурных деток» и их «уличных» антиподов:
« Оденут свои спортивочки, так набычатся, очки так наденут, все, че, есть семки пострелять? Ну, все в их духе, в общем, как будто быдло такое собрано. Там, конечно, есть и нормальные люди, но основная часть — быдло, на самом деле… Я ушла оттуда и практически ни с кем не общаюсь » (Ульяновск, девушка, 14 лет, смешанная, инт. № 25).
Но это отнюдь не значит, что субкультурная эстетика не может являться основанием для конструктивных типов взаимодействий. Сегодня уже не секрет, что идентификация с какой-либо молодежной субкультурной группой нивелирует для подростков все прочие идентификационные маркеры и является позитивным основанием для выстраиваемых отношений. У респондентов, скорее, вызывают опасения агрессивные субкультуры и группы, имеющие недостаточный уровень общекультурных компетенций, принятый в привычном и разделяемом отдельными подростками стиле общения. Например, описывая территориальное пространство, где они получают опыт негативных коммуникаций, ребята говорили о гопниках, встрече с наци-скинами во дворе дома, об акциях «чистого четверга» на улицах города. Но фактор этничности даже в такого рода негативных коммуникациях не всегда является определяющим. Достаточно просто «как-то не так» выглядеть или «как-то не так» взглянуть, чтобы нарваться на открытую агрессию.
С точки зрения негативного потенциала отношений, объективирующих этнического другого в складывающихся детско-подростковых сообществах, важно обратить внимание на своего рода «коммуникационные миражи» в общении. Они не такое уж редкое явление в современных школах. Например, иноэтничный юноша из Санкт-Петербурга все свое общение с одноклассниками определил с помощью аутентичной категоризации, выведенной опытным путем. В его дискурсе: «Если кто-то с кем-то не дружит , то не ненавидит его, а просто не обращает внимания ». Таким образом, общение для него состоит либо из «дружбы», либо это «ненависть», либо «отсутствие внимания». Его дискурс о межэтнических отношениях транслируется именно в такой форме.
Более сложная, но сопоставимая с описанной выше аутентичная классификация складывающихся в школе отношений звучит в дискурсе девушки из «смешанной семьи»:
« Есть доступные люди, есть своеобразные… а есть такие, которые ни с кем, сами по себе. Доступные — ну, это те, которые слишком так себя ведут, навязывают себя даже немного, есть такой момент, вот с ними такого нет, они так, чисто подлизываются, чтобы связи чисто были, да там разобраться, тут сделать что-то. Своеобразные — это те, которые, ну, у них свой круг общения, им нравится в собственном кругу, а недоступные — не то чтобы изгои, у них свое личное общество, они сами по себе. Одиночки, по сути… В общем, доступных не задирают, своеобразных — придираются к ним, бывало, даже некоторых били, а одиночки, они вообще, что они есть, что их нет. Просто, когда этот человечек не приходит, говорят, о, шесть уроков прошло, а мы даже не заметили, что ты сидел тут, мы сказали, что ты отсутствуешь на уроке. Вот так и бывает, в принципе » (Ульяновск, девушка, 14 лет, смешанная, инт. № 25).
«Коммуникативные миражи», вероятно, и позволяют заметить отдельную категорию детей и подростков, которая впервые была обнаружена в одном из наших исследований [1]. Это категория, особым образом выстраивающая свои отношения с учетом их межэтнического компонента. Сегодня этот эффект встречается в каждом классе почти повсеместно, и это отражено во многих детских дискурсах. Эффект «невидимых детей» возникает в классах, где количество иноэтничных ребят, особенно недавно переехавших, меньше, чем остальных, он характеризуется параллельным существованием в жизни класса иноэтничных учеников. Но сейчас уже можно утверждать, что в ряде случаев эта стратегия отношений выстраивается намеренно, а право быть «невидимыми» завоевывается путем стычек, конфликтов и даже драк. Например, в дискурсе об истории своих отношений, складывающихся с одноклассниками, девочка из Санкт-Петербурга, где в семье у одного родителя турецкая, а у другого узбекская этничность, обмолвилась, что сейчас у нее все хорошо, а на «гадости» она не реагирует. Похожий случай был воспроизведен на одной из фокус-групп в Ульяновске: иноэтничная девочка рассказала, как ей удалось «гармонизировать» школьные конфликты.
Интервьюер: (Имя респондента), ты была в ситуации, когда обижали из-за национальности?
Респондент: Ну, было в школе. В младших классах. Один раз сказали. Вот я брату сказала. Брат просто поговорил. И всё. Такого вообще больше не было. Потому что знают, что у меня братьев много. Один выпустился, другой выпус- тился и ещё есть. И никто не подходил даже. Наоборот, ещё уважают как-то (Ульяновск, девочка, 12 лет, ФГ № 5).
В действительности и в том и в другом случае — это схожий дискурс «невидимок», выстроенный с привлечением коммуникативных знаков общего поля значений. Девочка из Петербурга воспроизводит его, привлекая знак «отсутствие реакции», а девочка из Ульяновска конструирует его через категорию «уважение». Что буквально в этом дискурсе означает: если меня уважают , следовательно, оставили в покое и больше не трогают, и если не видят моей реакции на оскорбительные действия, то также не трогают и оставили в покое. Таким образом, артикуляция того, что у девочек не существует больше проблем в общении и нет прямых контактов с обидчиками, отнюдь не означает, что их отношения в классе складываются в конструктивном формате.
К слову, гендерные основания в подростковой коммуникации могут, очевидно, перекрыть этнический аспект и выйти на первый план, т. е. этническое пропадает за гендерным. Но они же (гендерные основания) могут быть использованы и для конструирования негативной этнич-ности, например, чтобы унизить девочку, ей могут приписать «маскулинные физиологические признаки»:
« У нас говорят — чёрная. Что еще говорят?.. волосатый говорят. “Ты чё волосатый, — говорят, — иди, спину побрей”. Ну, вот так. У нас жестокие одноклассники. Были » (Ульяновск, девочка, 13 лет, ФГ № 2).
Таким образом, гендер остается, пожалуй, наиболее влиятельным механизмом конструирования позитивной или, напротив, негативной этничности.
Если углубиться в анализ, то можно заметить, что не только дискурсы иноэтничных ребят и ребят из смешанных семей схожи. Дискурс о межэтнических отношениях, складывающихся в классе, например, у русского мальчика 11 лет из Ульяновска, имеет ту же самую природу значений. Он говорит, что не замечает и не обращает внимания на то, какой национальности ребята учатся вместе с ним. Здесь «не обращать внимания» — это тоже аутентичная форма выстраиваемых отношений с одноклассниками, которые школьник конструирует. И возможность быть невнимательным, соблюдать дистанцию — это и есть составные элементы его этнической идентификации, когда он называет себя русским.
Этничность конструируется в самых разных формах отношений. Вот пример конструирова- ния «от обратного» этнической идентичности посредством оценки межэтнических связей юношей из смешанной семьи Санкт-Петербурга, который утверждает свою русскую этничность:
« Русский — это не национальность, это состояние души. Так же как американец, немец, азербайджанец. Если человек хочет, если чеченец хочет быть русским, он будет русским » (Санкт-Петербург, юноша, 14 лет, ФГ № 9).
За этим высказыванием — значение дискурса: «русский» — это качество (нечто, что сменяемо в контексте интервью), выступающее основанием для нормативного поведения, чеченец — сам по себе — вне нормативности, не обладает качеством, но может это иметь, если станет вести себя «как русский».
Если среди подростков почти не встречается очевидных «интолерантных ляпов», все же правила языковой толерантности уже интерио-ризировались в подростковой повседневности в качестве важного элемента этикетной культуры. Среди детей они еще встречаются, и аутентичные формы выстраиваемых ими отношений имеют более интенсивную этническую окраску. В этом свете интересен диалог с 11-летней русской девочкой:
Интервьюер: А вот твои друзья, кто они по национальности?
Респондент: Очень повезло, что в моем классе, у нас всего лишь одна татарка, все русские.
Интервьюер: Ты считаешь — это повезло?
Респондент: Ну, хотя, да. Ну, допустим, я ходила на бальные танцы, там ходил один татарин и чувашка одна еще. Ну, не знаю, мне как-то больше нравится общаться с такими, как я (Ульяновск, девочка, 11 лет, инт. № 11).
Интересны также случаи того, как значения межэтнических отношений конструируются посредством смены места/территории (миграционных планов), гендерных стратегий, дискурсов о дружбе, о религии, выстраиваются с помощью культурной регламентации, игровых практик, в контексте получения новых технических ресурсов.
Заключение
Сегодня невозможно не считаться с реально существующими конструкциями межэтнических отношений, складывающихся на местах, как с учетом истории их (образования) зарождения и развития, так и принимая во внимание весь комплекс нынешних складывающихся социально-экономических, политических, локально-культурных факторов, которые подчас весь- ма специфичны в каждом конкретном регионе. Вся история формирования этого конструкта («межэтнические отношения») связана со сложными проблемами, столкновениями, конфликтами и войнами, где первым и очевидным различительным признаком сторон выступала иная этничность. И необходимость различения своего-другого, ответа на вопрос «Кто ты есть?» предполагает включение в конструкцию этнич-ности. Это социально обусловленное правило выживания, социально формируемая установка, определяющая сегодня социальный статус, и доказательство успешности.
Когда дети впервые сталкиваются с необходимостью идентификации себя с «меньшинством» (поставив себя в позицию меньшинства, а не большинства), механизм самоконструирова-ния актуализируется. И если этническая самоидентификация способна выступить в качестве дополнительного ресурса, то она скорее всего будет применена. Это значит, что «вопрос эт-ничности», так или иначе, станет проблемати-зироваться в определенный период времени. Так, в исследовании вопрос о национальности друзей при первом приближении у русских ребят не имел, казалось бы, полного раскрытия. Но это не потому, что русские дети не придают этому значения, «не замечать этничности» — это тоже часть идентичности, в соответствии с которой выстраиваются персональные межэтнические отношения. Это этническая идентичность «большинства» в проживаемом регионе, тогда как дети из смешанных семей или иноэтничные дети сразу понимали, «о чем их спрашивает интервьюер». Потому, как правило, выбираемая стратегия отношений иноэтничного ребенка — это либо отношения «отстройки от большинства» с целью различения, чтобы была возможность утвердить свое «право/власть на субъектность», либо отношения «следования/присое-динения» — в этом случае субъект в любой момент может превратиться в объект.
Дети и подростки из смешанных семей имеют все шансы раньше прочих получить опыт межэтнической коммуникации, но над ними довлеет социальное требование самоидентификации. Даже если в принципе у ребенка нет такой потребности, он вынужден подчиниться «нормативному предписанию» и ответить на вопрос «Кто я и с кем я?». Первая стратегия, с одной стороны, выглядит ресурсоемкой и психологически комфортной с точки зрения выстраивания паритетных (субъект-субъектных) отношений. Но это во многом зависит от дискурса («политики») того, кто выбирает тот или иной тип отношений. Вся усвоенная риторика интериоризирована в язык говорения, а значит, и в сознание (представление) о нормативном различении своего и другого на основании репрезентации антропологической непохожести. И до тех пор, пока, например, за акцентуацией эт-ничности будут стоять политические интересы, до тех пор, пока в сознании множеств (и людей, для которых имеет значение их этническая идентичность в том числе) этническое происхождение будет объяснять выгодное или, напротив, невыгодное социально-экономическое положение, политически ситуацию вряд ли получится сделать оптимальной. Сегодня по количеству имеющихся ресурсов определяется смысл и ценность вещей, и в этом случае вряд ли возможно отказаться от приоритета статусных позиций.
Общей схемы «идеальных» межэтнических отношений как панацеи от возможных конфликтов и противоречий, вероятно, не будет. Мальчики и девочки, кем бы они ни являлись, быстро усваивают те групповые маркеры, которым следует большинство, и оперируют ими же. Они выстраивают себя в логике накопления актуальных и жизненно важных ресурсов. Этнический ресурс — безусловно, важная, но отнюдь не единственная ценность. Социальный капитал сегодняшних подростков включает в себя языковую компетентность и многоязычие, обязательное овладение и скоростное управление техническими способами коммуникации. Потому не только культурный опыт и доступ к культурным ресурсам, но и коммуникативный опыт должен быть как можно более разнообразным. В связи с чем необходимо как можно более тщательно изучать коммуникативные потребности и социокультурные запросы детей и подростков, исследовать группы, причем не только институ-циированные и формально организованные, но и неформальные, провести анализ имеющихся «культурных предложений» в каждом конкретном регионе на предмет аутентичности детским и подростковым запросам.
Поскольку почти для каждого типа межэтнических отношений в качестве одного из параметров почти всегда обнаруживался дискурс совместной деятельности и/или чувства сопричастности, то он и является (может являться) основополагающим для выстраивания конструктивных форм общения. Детям и подросткам важно испытывать чувство сопричастности. С одной стороны, это делает общение «более личным», и оно персонифицируется, а это значит, что при недостатке культурных и экономи- ческих ресурсов детско-подростковое общение может ограничиться традиционным «гулянием по торговому центру», но, с другой стороны, даже такие ограниченные бытовые форматы — это часть «общего занятия», во время которого дети и подростки могут получить индивидуальный опыт межэтнической коммуникации, а значит, больше вероятность того, что их знание будет менее стереотипизированным или, по крайней мере, шаблон восприятия будет способен подвергаться сомнению. Индивидуальный опыт, полученный в совместной деятельности, позволяет легко интериоризировать знание о культурных особенностях. Главное, чтобы эти желание и потребность что-то делать вместе, заниматься чем-то интересным персонально детям или социально полезным были сформированы и подкреплялись. «Программы подкрепления» должны быть нацелены на коммуникативные компетенции, их технические инструменты и расширение форм культурных предложений, увеличение их разнообразия.
-
1. Адаптация детей мигрантов в школе : методическое пособие (рекомендации по проведению комплекса адаптационных мероприятий в общеобразовательных учебных заведениях РФ) / авт. кол.: Е. Л. Омельченко, Ю. В. Андреева, Е. Л. Лукьянова, Г. А. Сабирова, Я. А. Крупец. Ульяновск : УлГУ, 2010.
-
2. Андреева Ю. В., Сабирова Г. А. Школьная дружеская компания подростка с миграционной историей // Журн. социологии и социальной антропологии. 2014. Т. 72, № 1. С. 170—189.
-
3. Гуриева С. Д. Установка и формирование системы межэтнических отношений // Вестн. Нижегородского гос. ун-та. 2009. № 6, ч. 1. С. 282—292.
-
4. Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий // Общественные науки и современность. 2001. № 3.
-
5. Филлипс Л., Йоргенсен М. Дискурс-анализ. Теория и метод : пер. с англ. 2-е изд., испр. Харьков : Изд-во «Гуманитарный центр», 2008. 352 с.
-
6. Lareau A. Unequal childhoods: Class, race, and family life. Berkeley : University of California Press, 2003. 343 с.
-
7. Poulin F. et al. Participation in Organized Leisure Activities as a Context for the Development of Social Competence among Preschool Children // Journal of Educational and Developmental Psychology. 2012. Т. 2, № 2. С. 32–—41.
-
8. Posner J. K., Vandell D. L. After-school activities and the development of low-income urban children: a longitudinal study // Developmental psychology. 1999. Т. 35, № 3. С. 868—879.
-
9. Willis P. E. Learning to Labour: How working class kids get working class jobs. Farnborough, England : Saxon House, 1977.
Список литературы Особенности складывающихся межэтнических отношений в детско-подростковой среде: пространства и практики
- Адаптация детей мигрантов в школе: методическое пособие (рекомендации по проведению комплекса адаптационных мероприятий в общеобразовательных учебных заведениях РФ)/авт. кол.: Е. Л. Омельченко, Ю. В. Андреева, Е. Л. Лукьянова, Г. А. Сабирова, Я. А. Крупец. Ульяновск: УлГУ, 2010.
- Андреева Ю. В., Сабирова Г. А. Школьная дружеская компания подростка с миграционной историей//Журн. социологии и социальной антропологии. 2014. Т. 72, № 1. С. 170-189.
- Установка и формирование системы межэтнических отношений. Гуриева С.Д.//Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2009. № 6-1. С. 282-291.
- Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий//Общественные науки и современность. 2001. № 3.
- Филлипс Л., Йоргенсен М. Дискурс-анализ. Теория и метод: пер. с англ. 2-е изд., испр. Харьков: Изд-во «Гуманитарный центр», 2008. 352 с.
- Lareau A. Unequal childhoods: Class, race, and family life. Berkeley: University of California Press, 2003. 343 с.
- Poulin F. et al. Participation in Organized Leisure Activities as a Context for the Development of Social Competence among Preschool Children//Journal of Educational and Developmental Psychology. 2012. Т. 2, № 2. С. 32-41.
- Posner J. K., Vandell D. L. After-school activities and the development of low-income urban children: a longitudinal study//Developmental psychology. 1999. Т. 35, № 3. С. 868-879.
- Willis P. E. Learning to Labour: How working class kids get working class jobs. Farnborough, England: Saxon House, 1977.