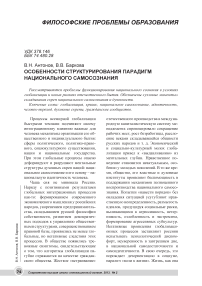Особенности структурирования парадигм национального самосознания
Автор: Антонов Вадим Николаевич, Баркова Валентина Васильевна
Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu
Рубрика: Философские проблемы образования
Статья в выпуске: 2 (20), 2013 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются проблемы функционирования национального сознания в условиях глобализации и новых реалиях отечественного бытия. Обозначены «узловые моменты» складывания скреп национального самосознания и духовности.
Глобализация, кризис, национальное самосознание, идентичность, человек-переход, духовные скрепы, гражданское сообщество
Короткий адрес: https://sciup.org/14240130
IDR: 14240130 | УДК: 378.146
Текст научной статьи Особенности структурирования парадигм национального самосознания
В.Н. Антонов, В.В. Баркова
Процессы всемирной глобализации быстрыми темпами подчиняют своему интеграционному влиянию важные для человека механизмы организации его общественного и индивидуального бытия: сферы политического, политико-правового, социокультурного существования, нации и национальные государства. При этом глобальные процессы опасно деформируют и разрушают ментальные структуры духовных скреп наций: национальное самосознание и его основу – национальную идентичность человека.
Чаша сия не миновала Россию. Наряду с позитивными результатами глобальных интеграционных процессов как-то: формированием современного экономического мышления у российских народов, укоренением предпринимательства, складыванием русской философии собственности, развитием демократичных подходов к управлению общественными структурами, совершенствованием правовой базы, проявились не менее глобальные, но негативные следствия этих процессов. В обществе появились тревожные симптомы, свидетельствующие о том, что алгоритмы глобализации пагубно отражаются на качестве гражданского общества. Жесткое «встраивание»
отечественного производства в международную капиталистическую систему менеджмента спровоцировало сокращение рабочих мест, рост безработицы, расслоение веками складывавшейся общности русских народов и т. д. Экономический и социально-культурный молох глобализации привел к «выдавливанию» из ментальных глубин. Нравственное поведение становится неактуальным, особенно у молодых поколений. В то же время, общество, его властные и духовные институты проявляют беспомощность в поддержании механизмов полноценного воспроизводства национального самосознания. Попытки «навести порядок» без овладения ситуацией усугубляют нравственную неопределенность, размытость идеалов, продуцируя социальные риски, выливающиеся в агрессивность, нетерпимость, озлобленность и экстремизм, формирование агрессивных субкультур. Негативные проявления глобализационных процессов заставляют россиян испытывать психологический дискомфорт, неуверенность в завтрешнем дне, в национальной самодостаточности и самоидентичности. В свою очередь, это порождает дезориентацию в социуме, паралич «воли к жизни». Жизнь, как она сложилась теперь, в интуитивном ощущении можно выразить в смыслообразе: жизнь превратилась во всепоглощающее ничто. Ситуация нравственной дезориентации опасна не только для самобытия личности, но и для государства. Ведь его жизнеспособность, суверенитет и благополучие напрямую зависят от нравственной самодостаточности его граждан. В.М. Бехтерева подчеркивала, что никакие многочисленные армии не могут спасти того государства, в котором расшатаны нравственные устои, ибо и сила самих армий зиждется исключительно на национальных нравственных началах [2].
Общественная мысль на различных этапах отечественной истории вопрос о национальной самодостаточности русских народов всегда исследовала как традиционно актуальный. Этой проблеме посвятили свои труды: Н.Д. Бердяев, С.Н. Булгаков, Б.П. Вышеславцев, Ф.М. Достоевский, Н. Гордиенко, Л. Гу-мелев, А. Гусейнов, В.В. Зеньковский, В.И. Ильин, И.Н. Леонтьев, В.В. Розанов, С. Франк, Е.Н. Трубецкой и др. авторы. Самые разнообразные подходы к решению означенной проблемы фокусировались на поиске ответов на вопросы: «Что есть Россия, и какова ее судьба». В.В. Зеньковский отмечал, что с тех пор, как русская отечественная мысль обрела свою самость, больше всего она была занята темой о человеке, его судьбой, смыслами бытия, поиском скреп его духовности [3]. Н.А. Бердяев, высказываясь о путях духовного развития России, писал, что есть нечто мучительное в русской судьбе, и это нужно до конца изжить [1]. Изжить, по мысли П. Ставрова, в судьбе русского народа необходимо саморазо-рванность его национальной души и самосознания.
Возрождение национального самосознания в условиях глобализации и реалий российского бытия должно быть связано с обновлением самой субстанциональности духовного, обретением иных, чем это было раньше, форм и способов пребывания общечеловеческого в национальном.
Анализ развития российской государственности, ее духовных институтов, национального самосознания показывает, что они формировались непосредственно под воздействием православного христианства и его ценностей. Вот почему многие наши соотечественники полагают, что противостояние негативным процессам глобализации, кризисным явлениям в экономике, социокультурной и духовной сферах, возможно только на пути, ведущим в Храм. В. Соловьев писал, что оздоровить национальное самосознание и самодостаточность русских народов, воссоздать цельность русской духовности возможно через объединение его с высшим божественным началом. К Новому Иерусалиму, по словам Н.А. Бердяева, путь уготовляется в России. Мнения этих мыслителей сегодня востребованы большинством православно мыслящих людей. Среди них знаковые имена для русских народов: Д. Лихачев, Д. Лосев, Н. Михалков, А. Солженицын и другие.
Безусловно, христианские ценности существенным образом изменили лик и духовное состояние не только России, но и Европы и мира в целом. Бесспорным является и то, что для русских народов становление их национального самосознания, русской культуры, русского языка, мировоззренческих ориентиров началось со встречи с православной Византией. Именно под влиянием ее культуры начался генезис формирования национального самосознания россиян, менталитета, духовных ценностей, а также реализация их в эмпирической реальности русской жизни. К.Н. Леонтьев писал, что именно Византийские идеи и чувства сплотили в одно тело полудикую Русь [5]. Признание того, что люди независимо от их национальности, социального положения и прочих качеств равны, ибо все одинаково предстоят перед Богом, сделало ценностные выборы и Символы Веры христианства всемирно востребованными. Выдвинув идею индивидуального спасения, христианство
Особенности структурирования парадигм национального самосознания
В.Н. Антонов, В.В. Баркова
способствовало совершенствованию деятельности социальных учреждений на предмет их соответствия христианским ценностям и учению. Эта практика реально содействовала обретению индивидуальной духовной свободы каждой личностью и укоренению в общественном сознании христианских межличностных отношений. Выступив на стороне обиженных, угнетенных, бедных, обездоленных и, принимая каждодневное участие в делах, направленных на преодоление этих состояний, христианство сделало свои ценности знаменем борьбы за социальную справедливость и равенство. Именно это стимулировало в дальнейшем появление различных социальных проектов на базе христианских нравственных и духовных ценностей по общественному переустройству социумов и множество решительных практик по их реализации. Но правомерно ли полагать, что отход в эпоху массового атеизма от православных ценностей, спровоцировал духовную опустошенность и нравственную беспомощность россиян: вначале перед стихией «дикого рынка», затем в овладении позитивным опытом рыночной экономики, что вылилось в социальную глухоту, политический инфантилизм, утерю симфонии души.
Следует отметить, что начиная со времен формирования Московской Руси, к русским народам стало приходить осознание того, что живут они не только в многонациональном, но и многоконфессиональном государстве. Однако православие стало единственной конфессией, изначально объявившей себя духовной заступницей земли русской, ее народов и государственности перед Богом. Людьми различных верований православие выдвинуло идею духовного объединения «ушибленной ширью Руси», страны – континента и ее народонаселения, разбросанного на огромных просторах, где не было даже осознания общих интересов.
К.Д. Кавелин писал о России тех лет, что это страна грубокого невежества с полувосточными привычками, дикая и жалкая среда [4]. Таким образом, объединение русских народов, формирование у них чувств национальной общности, национальной самодостаточности, потребности вести диалог со своей родовой памятью, чтобы каждому было возможно соизмерять себя с общими интересами развития нации, стало выбором православия в его миссионерской работе. Духовное кормление как культурный и межконфессиональный диалог российских народов стал особым способом достижения нового уровня их целостност-ного существования. Основанный на доверии, восприятии других народов как равных, межэтнический диалог позволил высветить и осознать предмет общения – это судьба и целостность русского государства и его народов. Успех православной Церкви зиждился на том, что, являясь по своей природе Вселенской, она была не связана с какой-либо национальностью, культурно-политической или экономической системой. В силу этого она стала универсальной связью между народами, нациями и сообществами и смогла духовно стимулировать их эволюцию, невзирая на различные уровни культурного развития народов и их экономические состояния.
Культурные межэтнические диалоги, налаживая связи и коммуникации между народами, способствовали тому, что самосознание народов, живших на территории русского государства, и долгое время остававшихся вне простора индивидуального развития, стало складываться в двойной плоскости ценностей: культурно-исторической и гражданской. Именно через национальную индивидуальность человек, по словам И. Ильина, утверждает свою духовность и признает духовность других людей. Создаются предпосылки для складывания аксиом национального самосознания: чувства собственного достоинства, самодостаточности, способности к самообязыванию и самоуправлению, взаимоуважение и доверие к другим. Таким образом, национальное самосознание являет себя как интеграль- ная совокупность всех индивидуальных духовных сил народа, плод его истории. Именно оно создает возможность формировать национальную общность и необходимые для каждого народа и личности ощущения собственной самости, самоидентичности, осознание нравственного долга перед людьми, отечеством и Богом. Духовные скрижали христианства ориентировали личность на разрешение ее нравственно-психологических проблем через самоанализ, выстраивание внутреннего диалога со своим «Я», а затем и обществом. Такой диалог и становился ключом к овладению нравственной не-редуцируемой ментальностью русской души, ее установками, ценностными ориентациями. Важнейшая аксиома православия, поднявшая человека над этническими традициями и правилами рода, – это идея о духовном родстве людей. Человек, принимая эту аксиому, начинал понимать и ценить смысл общения между людьми, осознавать потребность в другом человеке. Последнее порождало толерантное отношение к духовным, культурным, религиозным выборам людей, живущих рядом в едином сообществе. Соизмеряя с собой складывающиеся обстоятельства общественного и личного бытия, человек осознавал, что формирует, создает, здесь и сейчас свой личный и общественный интерактивный топос. При этом вектор культурной идентичности из этнической плоскости перемещался в плоскость национальную, и человек становился автором своего и соавтором общего национального сознания. Однако сегодня держаться за образ России как страны, где гражданское национальное самосознание зиждется только на православных ценостях, означало бы проявление социальной близорукости и глухоты к эмпирическим реалиям российской жизни. Именно такую точку зрения высказывают А. Гордон, А. Гусейнов, В. Малахов, В. Тишков и др. авторы. С их точки зрения, нужен переход к новой парадигме национальной солидарности, связанной с созданием « русской на- ции». Предпосылки для формирования национальной гражданской идентичности были заложены в СССР. Это нашло отражение в подвиге народа по спасению Родины в годы Великой Отечественной войны, восстановлении народного хозяйства, энтузиазме комсомольских строек и освоении целины. На ХХII съезде КПСС это было зафиксировано как появление новой исторической общности «советский народ». И сегодня эта национальная идентичность дает себя ощутить на всем постсоветском пространстве.
В последнее время этнокультурное и религиозное разнообразие на российских просторах стало возрастать. Миграция в Россию исчисляется сотнями тысяч людей. Многие приехавшие не склонны рассматривать местожительство здесь временным пристанищем. Как следствие, в современной России складываются инокультурные диаспоры со своими национальными предпочтениями, религиозными традициями, ценностными выборами. Возникает вопрос: что у нас может быть общего с такими соотечественниками, живущим вместе с нами в едином политическом, правовом, социокультурном пространстве, называемом нацией. И если это нечто общее есть, то каков механизм «срастания» в единую канву уже сложившихся национальных отношений и гражданского самосознания, выстраивания межэтнического сотрудничества – мультикультурализм – теорию неконфликтного сосуществования в одном социальном пространстве разнородных культурных сообществ. Это предполагает переход от политики «включения» индивидуальных и групповых различий в более широкие структуры к политике «признания» их права на существование в качестве «иных». При этом инонациональное может войти как ценностно значимое в менталитет национального самосознания. Одним словом, возникает такое взаимодействие разнородных культурных сообществ, которое, имея интегрирующие основания, не подменяется ассимиляцией.
Особенности структурирования парадигм национального самосознания
В.Н. Антонов, В.В. Баркова
Тем не менее ,желание жить в исторически сформировавшейся национальной культуре и не «потеряться» в ней, должно быть связано с необходимостью осознания себя и своей культуры как «соразмерной» культуре других. Это потребность постоянно ощущать свою причастность к духовному развитию нации в целом. Только так национально индивидуальное сможет найти адекватное своей природе существование во множестве. По словам И. Иванова, всем необходимо учиться следовать «по огням жизни», созерцая сокровенный духовный смысл ее, учиться чувствовать общность развития человечества, заботиться об общем доме, действовать сообща, оберегая от эрозии духовные скрепы нации, национальное самосознание и его главный нерв – национальную самоидентичность.
Если под самоидентичностью понимать смыслообраз, позволяющий объединяться с одними людьми и дистанцироваться от других, определяя свою самотождественность как «смысл себя», то диалог между «Я» – «Они» способен реализоваться только посредством социальной коэволюции как механизма адаптации и защиты. Кризис самоидентичности как раз наступает тогда, когда распад идеалов и ценностей, лежавших в основе ранее доминировавших культур, вынуждает людей искать новые духовные ориентиры для осознания своего места в меняющемся социуме, новые базовые конструкты жизненного успеха, связи с государством, политическим ландшафтом, окружающей социальной средой. В содержательном аспекте конструкты самоидентичности представляют собой вербализированные результаты воспитания, исторической памяти, культурного багажа, выбора шкалы духовных и гражданских ценностей, информированности. То, что национальная самоидентичность – это станина национального самосознания, свидетельствует тот факт, что любое общество возможно лишь до тех пор, пока человек ощущает его продолжением самого себя и непременным условием собственного воспроизводства. По Г.В. Гегелю, каждый индивид имеет центральную точку самости, которая при случае (кризис самоидентичности) становится центром разъятия «самого себя внутри себя». Уникальность процесса «разъятия самого себя внутри себя» – есть проявление духовной готовности индивида к овладению практиками других. «Человек – перехода» при этом обретает новое «тело» личности «человека – перехода». Это новое «тело» личности сотворяется в актах перехода – разъятии «самого себя внутри себя». Поэтому последние можно рассматривать как механизмы, методики овладения «практиками перехода», в которых усваиваются, перерабатываются в «свое-другое» конструкты духовных скреп национального самосознания нового «тела» личности. Только так может быть достигнута целостность полноты человеческого существования в социуме, и только в этом смысле человек становится личностью. Возникает вопрос: не станет ли готовность «человека – перехода» принять установки других, правила их жизни, способствовать внеположенному безразличию ко всему, что есть в обществе. И если нет, то какие архетипы станут оберегами его самости, конструктами духовности и ментальности. Понимание духовности исторически сложилось как ценностное содержание сознания и являет собой чрезвычайно многомерное явление. Это «качество» сплава пластов человеческой психики: сознательного и бессознательного, эмоционального. Это интеллектуальная выстроенность результатов исканий человеческого разума в сфере искусства, философии, нравственности, религии, культурологической максимуме эпохи и т. п. Духовность – это состояние души, её готовность сотворять мир и жить в нем по законам гармонии, гуманизма, веры, надежды и добра. В. Соловьев в «Нравственной философии» писал, что нравственность это систематический указатель правого пути жизненных странствий человека и в реализации идеи добра состоит акт нравственности человека [6]. Духовное, гармоническое развитие личности достигается нравственным равновесием жизни. Таким образом, нравственное начало выступает стержневым, несущим основанием духовности. Очевидно, что духовность не может быть сведена только к религиозным аксиомам тех или иных конфессий, как бы ценны и востребованны сегодня они ни были. Какие же конструкты ценностого содержания сознания должны обозначиться и стать отправной точкой «сборки» духовной целостности личности в новых реалиях российской действительности? Такой целостности, которая бы отражала этнокультурный статус, мировоззренческие позиции, ментальность, культурные выборы личности, где «Я» стало бы центром ответственности за эти выборы, а неотъемлемые права человека приобрели бы национальную значимость. Следует иметь в виду, что ценностное содержание сознания не ориентировано на всеобщую и неизменную систему конструктов. Каждая личность фокусирует в себе одновременно несколько матриц идентичности. Актуализация тех или иных зависит от переплетения, столкновения социокультурных, политико-правовых, психологических причин и потребностей личности. Ценностные конструкты сознания, его духовные выборы всегда оказываются вариативными и определяются ситуациями локальной обстановки конкретного времени. В свете глобальных мировых интеграционных процессов и общего кризиса национально-по- литических институтов высвечивается потребность в тех конструктах национального самосознания личности, значимость которых определила сама эпоха. К ним следует отнести универсальные гражданские ценности: гуманизм, толерантность, человеческое достоинство, гражданскую ответственность, солидарность, демократизм, индивидуальный и общественный суверинитет. Одним словом, это все то, что должно и будет способствовать складыванию полноценного гражданского полиэтнического сообщества. Актом «перехода» к формированию такого гражданского сообщества должно стать решение проблемы диалога идентичностей: межэтнического, межнационального, глобального.
Список литературы Особенности структурирования парадигм национального самосознания
- Бердяев Н.А. Философия свободного духа. -М.: Республика, 1994. -480 с.
- Бехтерев В.М. и современная психология. Тезисы международной науч.-практ. конференции от 11-15 сентября 1995 г. -Казань, 1995. -150 с.
- Зеньковский В.В. История русской философии: в 2 т. -Ростов-н/Д: Феникс, 2004. -544 с.
- Кавелин К.Д. Мысли и заметки о русской истории. -М., 2010. -224 с.
- Леонтьев К.Н. Собрание сочинений. -М.: Русское книжное товарищество «Деятель», 1913.
- Соловьев В.С. Оправдание добра. Нравственная философия//[Электронный ресурс]: http://www. vehi.net/soloviev/oprav/.