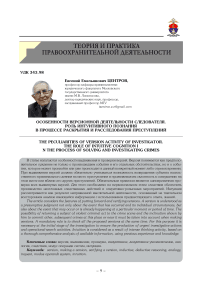Особенности версионной деятельности следователя. Роль интуитивного познания в процессе раскрытия и расследования преступлений
Автор: Центров Е.Е.
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Теория и практика правоохранительной деятельности
Статья в выпуске: 2 (59), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье излагаются особенности выдвижения и проверки версий. Версия понимается как предположительное суждение не только о произошедшем событии и его отдельных обстоятельствах, но и о событии, которое может произойти или уже происходит в данный конкретный момент либо отрезок времени. При выдвижении версий должна обязательно учитываться возможность возвращения субъекта насильственного криминального деяния на место преступления и проявляемая им склонность к совершению на этом месте или вблизи его других преступлений. Обязательным правилом является одновременная проверка всех выдвинутых версий. Для этого необходимо на первоначальном этапе следствия обеспечить производство неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Интуиция рассматривается как результат напряженной мыслительной деятельности, основанный на тщательном всестороннем анализе имеющейся информации с использованием предшествующего опыта, знаний.
Версия, выдвижение, проверка, индуктивное, дедуктивное умозаключение, аналогия, следствия, модус операнди систем, интуиция
Короткий адрес: https://sciup.org/140310195
IDR: 140310195 | УДК: 343.98
Текст научной статьи Особенности версионной деятельности следователя. Роль интуитивного познания в процессе раскрытия и расследования преступлений
К аждый раз, сталкиваясь с тем или иным событием и строя предположения по его поводу, следователь пытается представить: что это за событие, какова его сущность, где, когда и как оно происходило или будет происходить, кто и почему может быть к нему причастен? Далеко не всегда во всех деталях и подробностях известно, как действовал или будет действовать преступник. Поэтому следователю приходится строить предположения и о некоторых специфических особенностях его действий, пособниках, наводчиках, укрывателях, заказчиках, а также об орудиях и средствах, которые применены и будут использованы в дальнейшем. На основе имеющихся данных следователю надлежит сделать, хотя бы и в предположительной форме, вывод о том, кому это было или будет выгодно.
Версия - это одно из возможных объяснений какого-либо события и его отдельных обстоятельств . Поскольку суть исследуемого события может быть объяснена неоднозначно, по-разному, поэтому и возможных объяснений его может быть несколько. Версия не может сводиться только к объяснению. Она нередко предстает как образующаяся воображением следователя на основе имеющихся фактических данных некая картина, образ, мысленная модель расследуемого события. Обобщая различные предлагаемые в публикациях варианты, версию можно определить, как логически построенное, основанное на фактических данных предположительное суждение следователя о происшедшем событии либо событии, которое может произойти или уже происходит в данный конкретный момент либо отрезок времени, его сущности, отдельных его обстоятельствах, их возможной связи, динах, к нему причастных, мотивах их действий и характере их вины [1, с. 46; 2, с. 70; 4; 5;].
Версии рассматриваются как метод, способ интеллектуальной деятельности следователя, его наиважнейший рабочий инструмент [2, c. 70]. Их функциональное назначение состоит в том, что они обеспечивают упорядочивание, систематизацию имеющейся информации, выступают своеобразным ори- ентиром для отыскания и получения новой информации, других доказательств. Как отмечал А.Р. Ратинов: «Версия – идеальная, вероятностная, информационно-логическая модель происшедшего события» [7, c. 119, 133-137]. «Версия, – поясняла Л.М. Карне-ева, – по любому из обстоятельств, подлежащих доказыванию, является ориентиром для поиска доказательств, без которого расследование носило бы бессистемный характер» [10, с. 628-633].
Необходимость использования версий в деятельности следователя предопределяется прежде всего тем, что имеющейся исходной информации, особенно в самом начале расследования, обычно бывает недостаточно для достоверных выводов о расследуемом событии. Информации крайне мало, поэтому та информация, которая имеется в наличии, позволяет выдвинуть несколько версий, предположительно объясняющих, как происходило, происходит или будет происходить то или иное событие, каковы его отдельные обстоятельства и их связи между собой. И здесь проявляется вполне определенная зависимость – чем меньше информации, тем больше возможных объяснений расследуемого события, вариантов его развития, т.е. версий.
При выдвижении версий велика роль профессиональных знаний, воображения следователя, его умения анализировать, сопоставлять имеющиеся фактические данные, выявлять противоречия между ними и в то же время видеть связи между отдельными фактами и обстоятельствами. Версии строятся на основе логической переработки имеющихся фактических данных, их анализа, сравнения, сопоставления, синтеза. А поскольку движение мысли следователя идет от отдельных фактических данных к какому-то общему выводу, чаще всего при конструировании версий используются индуктивные умозаключения. Однако при объяснении каких-то отдельных обстоятельств могут использоваться и дедуктивные умозаключения. Их суть в том, что размышления следователя опираются на некоторые известные, научно или практически установленные особенности, закономерности. Например, если при осмотре обнаружен труп с признаками убийства, совершенного с применением холодного или огнестрельного оружия, а обильные следы крови отсутствуют, то данное обстоятельство позволяет сделать вывод о том, что убийство было совершено в другом месте. И хотя этот вывод обычно является не предположительным, а утвердительным, он может использоваться при выдвижении версий о других обстоятельствах расследуемого события (о конкретном месте совершения преступления, круге лиц, к нему причастных, и т.п.). Также, например, замечено, что преступнику, совершившему тяжкое преступление, свойственно возвращаться на место преступления, и он даже может быть склонен к совершению на этом месте или вблизи него других преступлений. Поэтому выдвижение с учетом этих данных версий о возможном появлении преступника при проведении осмотра места происшествия или в последующие дни должно быть обязательно положено в основу проведения соответствующих оперативно-розыскных и следственных действий [подр.: 11].
В логической переработке информации о криминальном событии, кроме того, велика роль умозаключений по аналогии , которые позволяют предположительно судить о связи предметов, явлений, событий на основе их сходства в каких-то существенных признаках. Чаще всего используется аналогия, при которой по сходству явлений, событий делается вывод о сходстве вызвавших их причин, или когда на основе данных о сходстве причин делается вывод о сходстве исследуемых явлений, событий. Расследуемые события, например, могут быть сходными по особенностям подготовки, способу совершения, сокрытия преступления, использованным орудиям и средствам, характеру похищенного, некоторым другим признакам, в которых проявляются профессиональные, личностные особенности виновных, их криминальные навыки и т.п. Наличие такой информации позволяет сделать предположительный вывод, т.е. выдвинуть версию о том, что все эти преступления совершены одним и тем же лицом или группой лиц.
Использование умозаключений по аналогии лежит в основе известного в криминалистике метода модус операнди систем . Его суть в том, что порой для того, чтобы раскрыть конкретное расследуемое преступление, особенно когда недостаточны исходные сведения, надо обязательно попытаться выйти за пределы имеющихся фактических данных и найти аналогичные , совершенные таким же способом другие преступления. И хотя все эти преступления совершены, допустим, с применением одних и тех же орудий и средств, одним и тем же способом и обнаружены одни и те же следы, однако неизбежно при объединении дел и их анализе можно получить некоторые дополнительные сведения, которые могут помочь в установлении виновных. Например, появляются иные свидетели, очевидцы, другого качества и характера следы, потерянные или брошенные орудия преступления, выявляются специфические криминальные связи и т.п.
При конструировании версий превалирующее значение имеют индуктивные умозаключения, однако неверно было бы сводить версию к какому-либо одному умозаключению. В основе мыслительной деятельности следователя лежит пелая система умозаключений, которая представляет собой сложный напряженный пропесс мысли, включающий и индукпию, и аналогию, и дедукпию. Логическое здесь переплетается с психологическим и определяется основной поисково-познавательной задачей расследования – необходимостью выяснения характера происшедшего и лиц, к нему причастных. Версионная деятельность следователя подразделяется на два основных этапа: первый – выдвижение, формирование версий и второй – их проверка.
При выдвижении и проверке версий должны быть обязательно выполнены следующие правила. Нельзя уделять внимание только одной версии. Все выдвинутые версии проверяются не последовательно, т.е. не одна за другой, а только одновременно. Следователь, разумеется, может уделить особое внимание какой-либо из версий, но при этом должен обязательно обеспечить своевременную, одновременную проверку всех осталь- ных версий. Обеспечить одновременную проверку всех версий можно дишь за счет выделения по каждой из версий неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, промедление с проведением которых чревато возможной потерей информанионного, доказательственного материала.
Проверка версий осуществляется с использованием дедуктивного умозаключения, то есть движения мысли от общего к частным сведениям. Каждая сконструированная с учетом совокупности имеющихся данных версия представляет собой некоторый общий предположительный вывод, который в процессе дальнейшей проверки должен быть подтвержден или опровергнут на основе определенных частных, отдельных фактических данных, доказательств, которые должны быть для этого получены. Механизм проверки каждой из выдвинутых версии заключается в том, что если версия верна, т.е. соответствует действительности, то вытекающие из нее с неизбежностью следствия должны обязательно подтвердиться соответствующими фактическими данными. Следствие - это то, что логически вытекает из версии, если она верна. Например, по факту обнаружения на проезжей части дороги тела погибшего с признаками насильственной смерти обычно делается вывод о том, что имело место преступное нарушение правил дорожного движения, а виновный скрылся. Но при некоторых данных должна быть выдвинута контрверсия о том, что совершено убийство, инсценированное под дорожное происшествие. Из выдвинутой версии об убийстве, замаскированном под дорожное происшествие, можно вывести следующие основные следствия: на одежде погибшего, как правило, не должны находиться микрочастицы от наезда, удара транспортным средством (краска от корпуса, пыль, загрязнения, следы от протектора колес и т.п.), а телесные повреждения не должны соответствовать тем, которые обычно образуются при автодорожном происшествии; на дорожном покрытии не должно быть следов, соответствующих автодорожному происшествию (следов резкого торможения, юза, разбитых фар и т.п.). Соответственно выведенным следствиям ставятся вопросы -имеются или не имеются такие следы? Эти вопросы могут быть разрешены с помощью определенных следственных действий (путем осмотра места происшествия, проведением криминалистической, судебно-медицинской экспертизы, допросом свидетелей, очевидцев и т.п.), которые включаются в план расследования. В этом как раз и просматривается связь следственных версий и планирования. В изложенном порядке обычно проверяется каждая выдвинутая по делу версия: версия - следствия - вопросы, подлежащие разрешению, - следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия - план расследования. И не стоит забывать, что по каждой из выдвинутых версий необходимо выделить неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, и обеспечить их проведение на первоначальном этапе расследования.
Процесс логической переработки имеющегося фактического материала не всегда очевиден и осознаваем . В следственной практике нередки ситуации, когда в собранных по делу материалах имеется некоторая необходимая для раскрытия преступления информация, однако следователь, ведущий расследование, воспользоваться ею не может, поскольку не видит, либо не может увидеть некоторой специфической связи между имеющимися фактическими сведениями. В результате возникает проблемная ситуания , решить которую мешают некоторые психологические барьеры.
Проблемная ситуания возникает обычно при появлении противоречия между необходимостью получения определенного знания, результата и отсутствием либо недостаточностью адекватных средств, способов его достижения. В ее основе - дефицит времени, неопределенность и ненадежность полученной информации, ее некритическая оценка, шаблонное использование тактико-методических рекомендаций, наличие дезинформации и противодействия со стороны заинтересованных лиц и т.п. И здесь судебные психологи, исследующие специфику мышления следователя, выделяют три уровня интеллектуальной активности, мыслительной деятельности - репродуктивный, креативный, эвристический. Этим проблемам в деятельности следователя были посвящены работы доктора юридических наук Нины Львовны Гранат. Она в своих исследованиях опиралась на тестирования студентов юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, следователей, следователей по особо важным делам Прокуратуры СССР.
На репродуктивном уровне, его еще называют пассивным, решаются задачи, для которых достаточен более или менее полный и последовательный перебор всех возможных вариантов решения. На этом уровне не решаются задачи сложные, проблемные, требующие творческого подхода, напряженной мыслительной переработки исходного материала.
Креативный уровень (лат. creare - творить, созидать) отличается высокой степенью обобщения, гибкостью, экономичностью мышления, его полной осознанностью, умением видеть связи между наличными сведениями и решать с их помощью возникающие задачи. Но некоторые сложные проблемные ситуации, особенно те, в которых не ограничены зоны и направления поиска решения, не всегда могут быть преодолены даже на креативном уровне. Решить такую проблему возможно за счет включения эвристического уровня интеллекта , который предполагает специфическую мыслительную переработку фактического материала с использованием интуиции.
«Интуиция позволяет мысленно увидеть сразу целую серию действий, образов, ситуаций... Вспыхивая в сознании как готовое положение, интуитивная догадка перескакивает через ряд звеньев осознанного логического рассуждения...» и может представлять на первых порах, как пишет А.Р. Ратинов, «лишь проблеск идеи, связанный с вопросом «может быть...». Затем мысль развивается, конкретизируется, уточняется посредством логических операций и оформляется в гипотезу (версию)...» [7, c. 133-137].
Известный процессуалист М.С. Стро-гович высказывался категорически против возможности использования интуитивного познания. Отдавая предпочтение рассудочному, дискурсивному, логически обоснованному мышлению, он рассматривал интуицию как «получение знания без предварительного обдумывания и логического рассуждения». «Мы думаем, – писал он, – что в следственной и судебной деятельности интуиция это не тот путь, который ведет следователя и судей к истине, это путь к заблуждению, к подмене логических аргументов фантазированием» [9, c. 345-346]. Действительно, «дискурсивное мышление – это процесс ясного рассуждения, в котором каждая последующая мысль вытекает из предыдущей, зависит от предыдущей и обусловливает последующую»1. Дискурсивное мышление имеет место в процессе анализа имеющихся фактических данных и относится к процессу доказывания на том или ином этапе расследования. Ошибочность позиции М.С. Строговича состоит в том, что процесс интуитивного познания относится не непосредственно к процессу анализа и доказывания по делу, не к уголовно-процессуальной деятельности, регламентированной законом, а к процессу творческой переработки имеющегося и получаемого при расследовании фактического материала, направленного на разрешение возникающих довольно сложных проблемных ситуаций. Это как раз тот самый оптимальный путь творческого анализа имеющихся фактических данных, который предполагает глубокий, тщательно обдумываемый, напряженный, творческий мыслительный процесс. И он отнюдь не завершается получением какой-либо догадки, «озарения». Возникшая мысль, своеобразный предварительный вывод нуждается в фактическом доказательственном подтверждении в ходе дальнейшего расследования.
Интуиция (от лат. intueri - пристально, внимательно смотреть) означает знание, возникающее без осознания путей и условий его получения; чутье, проницательность, непосредственное постижение истины без логического обоснования, основанного на предшествующем опыте2.
В интуиции выделяются четыре стадии. Первые три из них изложены еще в ХIХ в. немецким ученым Гельмгольцем, а четвертую добавил в 1908 г. известный математик Анри Пуанкаре.
Первая - saturation - осознание решаемой проблемы, насыщение ее информацией. На этой стадии идет понимание возникшей проблемы, ее формулирование, накопление, соединение, анализ имеющейся для ее решения информации, использование предшествующего опыта, знаний и с учетом всего этого происходит напряженный мыслитель- ный поиск возможностей для ее решения.
Вторая - incubation - созревание , внутренняя, на неосознаваемом психическом уровне переработка, рекомбинация, перестановка элементов всей исходной информации.
Третья - illumination - инсайд , озарение, неожиданный по времени и месту проявления исход требуемого решения проблемы. Возможное разрешение проблемы, догадка, то самое озарение возникает неожиданно, вдруг, в любом месте и в любое время дня и ночи.
Четвертая - verification - проверка, подтверждение выданного подсознанием решения. Анри Пуанкаре не только сформулировал четвертую стадию интуитивного решения, но и обосновал обязательную необходимость его последующей проверки и подтверждения не только математическим путем, но и иными методами, включая теоретико-прикладные обоснования. Д.И. Менделеев, чье открытие периодической таблицы признается образцом интуитивного мышления, писал: «Люди делают открытия, наблюдая и пробуя».
В качестве примера использования интуитивного решения можно привести следующий сюжет из реальной следственной практики. Было совершено убийство богатой женщины, которая проживала в комнате ранее принадлежавшего ей особняка. Подросток из соседней комнаты рассказал на допросе, что, услышав, как к ней постучали, приоткрыл дверь и увидел двоих мужчин. Он показал, что слышал, как эта женщина произнесла: «Анатолий! Заходите!» и впустила их затем к себе. Убийцы искали у этой женщины ценности, но ничего не нашли, хотя банка с драгоценностями, ржавая, грязная, запыленная лежала на виду в прихожей. В процессе расследования искали преступника по имени Анатолий. С таким именем в этом доме проживал один Анатолий, но у него, как и других, было твердое алиби. Знакомых этой женщины по имени Анатолий найти не удалось. Дело оставалось нераскрытым и было приостановлено. Назна- ченный позднее прокурор, тогда следствием ведала прокуратура, решил внимательно изучить это приостановленное дело по убийству. Из содержания материалов уголовного дела ему было понятно, что преступники пришли к жертве убийства не просто так, а по наводке, кто-то им сообщил о ее драгоценностях. Читая и внимательно перечитывая материалы этого дела, прокурор пытался понять, почему же женщина так легко впустила к себе этого самого «Анатолия». Он мысленно попытался представить себе, а как, по существу, мог произойти и произошел впуск этих двоих в комнату. Ведь женщина должна была, скорее всего, сказать: «А, вы, Анатолий! Заходите!», а может быть и как-то по-другому. Вот это первоначальное движение мысли о том, что здесь возможно была произнесена не эта фраза, а иная, и мальчик не все услышал и что-то не расслышал, послужила некоторым толчком к дальнейшим попыткам понять эту ситуацию. Не сразу, а несколько позднее, после напряженных раздумий по этому поводу, размышления привели прокурора к неожиданному предположению, что в этой фразе, вполне возможно, фигурировал не Анатолий, а некто другой. В произнесенном имени «Анатолий» подзвучно, в составе этого слова может слышаться имя «Оля». Тогда фраза «Анатолий! Заходите!» будет более правильно по смыслу этой ситуации звучать не «Анатолий! Заходите!», а иначе: «А! От Оли! Заходите!» Очевидно, мальчику-свидетелю в соединении этого обращения и послышалось имя не Оля, а Анатолий. Вот так вдруг, неожиданно и появилась совершенно иная новая версия о том, что к этому преступлению может быть причастна некая Оля. И если есть такая Оля, то она вполне могла быть наводчицей. В процессе дальнейшего расследования установили эту самую Олю, которая была очень близко дружна с погибшей женщиной и, действительно, явилась наводчицей для ее убийц. Они были установлены и осуждены.
В изложенном примере вначале на подсознательном, интуитивном уровне после напряженной мыслительной деятельности далеко не сразу произошла своеобразная перестановка, рекомбинация, трансформация основных элементов исходной информации, которая закончилась совершенно неожиданным выводом, обеспечившим успешное раскрытие этого убийства. В современных условиях, эту ситуацию, тогда сложную, можно оценить как совсем простую, если учесть некоторые анекдотические сюжеты, суть которых в своеобразном изменении смысла слов и составленных из них фраз, вследствие не перестановки слов, а лишь получения иных слов за счет разделения первоначальных слов на другие составные смысловые части.
Первый сюжет. В день получки жена говорит мужу: «Где деньги?» Тот отвечает: «Украли!». «У какой еще крали ?» - спрашивает жена.
Второй сюжет. Жена поручает мужу поджарить мясо. А ему слышится «Водку сок мясо поджарь». Поэтому он спрашивает: «Ну, ладно, сок, а водку-то зачем жарить?» Жена отвечает: «Да, помешался ты на этой водке. Я же тебе сказала: в от кусок мяса, поджарь! ».
Интуитивная догадка может проявиться и в процессе проведения следственного действия как результат напряженного мыслительного обдумывания возникшей проблемы и возможностей ее решения. Толчком для ее внезапного появления может оказаться новая дополнительная информация, полученная в процессе производства следственного действия. В некоторых ситуациях даже только умолчание допрашиваемого о тех или иных обстоятельствах может быть использовано для получения от него правдивых показаний.
Например, расследуя дело об убийстве Эльвиры Шиляевой, следователь пытался понять, где же могла захоронить либо спрятать тело убитой подозреваемая Зоя Едигарова. В совершении этого убийства она не признавалась. По обстоятельствам дела убийство могло произойти на одной из дорог между деревнями Старые Уни и Баженово, где-то там в окрестностях и оврагах мог находиться труп убитой. Следователю пришлось тщательно просмотреть все возможные варианты, лично самому пройти по этим дорогам, пытаясь представить, как это могло произойти. Особенности окрестностей и расположенных рядом с ними оврагов в переходах к этим де- ревням следователь после такого ознакомления мысленно держал в памяти. Допрашивая Едигарову, он попросил ее рассказать, как можно пройти из одной деревни в другую. Подозреваемая подробно рассказала о более длинной дороге, а про короткий путь, которым обычно пользовались жители (через деревню Кокоры) лишь упомянула. Это показалось следователю подозрительным, и он предложил допрашиваемой рассказать о всех особенностях именно этой дороги. Едигаро-ва подробно описала и эту дорогу, упомянув обо всех оврагах, но при этом упустила самый большой и глубокий, находившийся на самом глухом участке дороги, где преступнику было удобнее всего совершить убийство и захоронить труп. Следователю такая уклончивость в ответе показалась очень подозрительной, тем более что у Едигаровой по мере ответов на вопросы нарастала некоторая растерянность, и он напомнил ей про этот большой овраг. Как описывал данное дело следователь: «Волнение Едигаровой увеличилось, тогда я ей заявил: «Вы убили Эльвиру возле большого оврага… Сейчас мы поедем туда, и вы покажете, где находится труп». Зоя заплакала и спросила: «Откуда вы это знаете?» Затем она подробно рассказала, как вместе со своей сестрой Ириной задушила Эльвиру».
Оценивая данный прием, нужно отметить, что в основе такого вывода следователя лежит интуитивная догадка, явившаяся следствием глубокого анализа материалов уголовного дела, тщательного знакомства с территорией, где возможно происходило расследуемое событие и напряженной мыслительной попытки представить в своих размышлениях то место, где могло произойти убийство. Уклончивые ответы допрашиваемой и особенности проявленной ею реакции на уточняемую информацию явились решающим толчком для успешной интуитивной догадки.
Творческая сторона интуитивного познания имеет отношение не только к следствен- ной деятельности. Его использование существенно для любой правовой деятельности и выступает в качестве основы при занятиях музыкой, литературой, поэзией, архитектурой и т.п.
Рассматривая проблемы интуиции, А.И. Бастрыкин обратил внимание на сообщения в печати об участии в расследовании так называемых экстрасенсов, которые, «получив какой-либо предмет, связанный с преступником (орудие преступления) или его жертвой (часть ее одежды) будто бы способны давать точные указания относительно направления розыска. Приводимые в печати примеры весьма впечатляющи. Однако природа и закономерности выводов экстрасенсов изучены плохо, особенно в отечественной психологической науке. Чтобы сделать обоснованный вывод относительно данной практики, необходимы глубокие комплексные исследования указанных неординарных способностей человеческой психики» [1, c. 46]. С помощью экстрасенсов можно получить сведения о местонахождении лица, жив он или мертв и т.п. Действительно такие способности приборами не измеришь, истинность получаемых сведений проверяется лишь их соответствием конкретным устанавливаемым затем фактам. Понимание исходных основ такого знания возможно лишь за счет сопоставления и сравнения с современными мобильными устройствами, позволяющими устанавливать дистанционно звуковую и иную видеосвязь. Очевидно, настоящим, действительно обладающим такими способностями экстрасенсам удается улавливать электромагнитного и иного характера волновые колебания от некоторых значимых объектов.
Версионная деятельность следователя многообразна, ее содержание определяется различными логико-психологического характера особенностями поисково-ориентированных действий, способствующих установлению истины по делу.