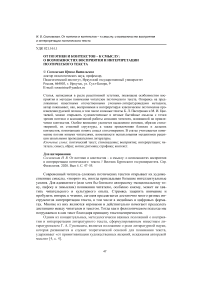От поэтики и контекстов - к смыслу: о возможностях восприятия и интерпретации поэтического текста
Автор: Сосновская Ирина Витальевна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 4, 2020 года.
Бесплатный доступ
Статья, написанная в русле рецептивной эстетики, посвящена особенностям восприятия и методам понимания читателем поэтического текста. Опираясь на предложенные известными отечественными учеными-литературоведами методики, автор показывает, как, воспринимая и интерпретируя классические поэтические произведения русской поэзии, в том числе сложные тексты Б. Л. Пастернака и М. И. Цветаевой, можно открывать художественные и вечные бытийные смыслы с точки зрения поэтики и ассоциативной работы сознания читателя, основанной на привлечении контекстов. Особое внимание уделяется выделению мотивов, образов стихотворений, их стиховой структуры, а также привлечению близких и дальних контекстов, помогающих понять смысл стихотворения. В статье учитывается понимание поэзии юными читателями, возможности использования механизмов рецепции школьными преподавателями литературы.
Поэтический текст, стиховедение, восприятие, интерпретация, читатель, смысл, образ, мотив, ритмика, строфика, контекст
Короткий адрес: https://sciup.org/148317751
IDR: 148317751 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи От поэтики и контекстов - к смыслу: о возможностях восприятия и интерпретации поэтического текста
Сосновская И. В. От поэтики и контекстов – к смыслу: о возможностях восприятия и интерпретации поэтического текста // Вестник Бурятского госуниверситета. Сер. Филология. 2020. Вып 4. С. 47–55.
Современный читатель сложных поэтических текстов открывает их художественные смыслы, «творит» их, иногда прикладывая большие интеллектуальные усилия. Для адекватного (или хотя бы близкого авторскому эмоциональному тону, пафосу и замыслам) понимания читателю, особенно юному, может не хватить читательского и культурного опыта. Стремясь зацепить внимание и пробудить интерес к чтению, сегодня предлагается достаточно много разных инструментов интерпретации текста, в том числе в медийных и цифровых форматах. Многие из них являются игровыми и действительно помогают преодолеть дистанцию между читателем и текстом. Тогда как в филологическом подходе мы погружаемся в сам текст благодаря принципу текстоцентричности.
Одним из концептуальных, методологически важных положений о восприятии и интерпретации литературного текста, сформулированным известным литературоведом Г. А. Гуковским, является положение о роли литературной науки, которая развивается и служит теоретической основой для понимания текста, удерживает «от примитивизации художественных явлений, искажения авторской мысли» [4, с. 4].
Научная мысль сегодня активно ищет новые инструменты анализа и интерпретации, накоплен большой исследовательский опыт, который можно достаточно результативно использовать при работе с самыми сложными текстами, например, поэтическими. В сознании молодого читателя литературное произведение можно рассматривать как собственно художественный феномен, т. е. не выходя за пределы того, о чем сказано в тексте. В то же время художественное произведение связано с определенным жизненным и культурным контекстом, дает основание рассматривать его как выражение определенной эпохи или жизни автора. Известный стиховед М. Л. Гаспаров считал, что начинать нужно «со взгляда на текст и только на текст – и лишь потом, по мере взросления читателя и необходимости для более глубокого и всестороннего понимания, расширять поле читательского зрения» [2, с. 103]. Однако любой анализ сегодня не может быть строго герметическим. Привлечение контекста, так или иначе, сопровождает имманентное рассмотрение произведения. «Наука о литературе нуждается в сопряжении, синтезировании имманентного и контекстуального изучения художественных творений» [11, с. 292]. В чтении и восприятии стихотворений возможна реализация того и другого подходов, их синтез в процессе понимания сложных поэтических текстов.
Об основных, элементарных этапах имманентного анализа поэтического текста речь идет в статье М. Л. Гаспарова «”Снова тучи надо мною…” Методика анализа» [3]. Автор, отталкиваясь от системы литературоведа Б. И. Ярхо, выделяет в строении текста три уровня, на которые читатель с необходимостью обратит внимание при раскрытии смысла. Первый, верхний, уровень – идейнообразный. В нем два подуровня: во-первых, идеи и эмоции; во-вторых, образы и мотивы. Второй уровень, средний, исследователь характеризует как стилистический. В нем выделяются два подуровня: во-первых, лексика (прежде всего – слова в переносных значениях, тропы); во-вторых, синтаксис. Третий уровень М. Л. Гаспаров называет «фоническим», звуковым. Ученый считает, что, учитывая данную схему, можно избежать стихийности анализа и интерпретации, заметить те явления «формы», которые «поддерживают» содержание, чтобы «вырисовывающийся художественный мир <…> приобрел окончательные очертания» [3, с. 21]. Именно индуктивный путь восприятия и анализа, от формального признака (образа, детали, мотива) к идее, т. е. от частного – к общему, от формы – к смыслу, является наиболее продуктивным путем.
Мотивно-образный ряд произведения входит в сложный идейнотематический и проблемный комплекс, имея отношение к содержательной его стороне. Слово-образ с его потаенным смыслом остается часто за гранью восприятия читателя. Однако образ первоначально должен вызывать зрительное представление о предмете или явлении, за которым «стоит» другой, как правило, символический смысл. В поэзии часто встречаются образы солнца, снега, дерева, ребенка, луны, воды, радуги, матери, тучи, горы, моря, пустыни, дороги, птицы и т. д. В каждом конкретном стихотворении открываются разные стороны образа. Интерпретатор должен стремиться понять те смыслы, которые образ проявляет в конкретном тексте.
Мотивы же связаны с действием или функцией, понимаемыми достаточно широко. Мотив в лирике – это эстетически «уплотненные» эмоции и состояния, которые определяют «портрет души» автора. Лирический мотив – своеобразная эстетическая «кристаллизация» человеческих чувств. Реализация мотива происходит посредством художественной формы: через систему образов, причем значительную роль, особенно в поэзии, играют звукообразы и ритмический рисунок. И все же определяющими для объективного обозначения мотива являются повторяющиеся, притягивающие, как магниты, слова-образы, слова-понятия, т. е. концепты. В отечественной культуре особым ценностным статусом обладают такие концепты, как «радость», «любовь», «надежда», «покой» – важнейшие мотивы отечественной поэзии. Методологической основой для мотивно-образного анализа и понимания поэтического текста является исследовательская работа Ю. С. Степанова «Константы. Словарь русской культуры» [10].
В рамках мотивно-образного подхода важно чувствовать и определять и пафос произведения как момент функционального схождения всех особенностей творчества, основную установку творческого сознания автора. Его определяют как эмоциональный эффект, тип авторской эмоциональности, миросозерцательно значимую эмоцию [6]. Совершенно невозможно обойтись без учета этой «сверхэмоции» в понимании, например, стихотворений Б. Л. Пастернака. Покажем значение имманентного подхода на примере стихотворения Б. Л. Пастернака «Когда разгуляется…» (1956).
Большое озеро как блюдо.
Над ним скопленье облаков, Нагроможденных белой грудой Суровых горных ледников.
По мере смены освещенья
И лес меняет колорит.
То весь горит, то черной тенью Насевшей копоти покрыт.
Когда в исходе дней дождливых Меж туч проглянет синева, Как небо празднично в прорывах, Как торжества полна трава!
Стихает ветер, даль расчистив. Разлито солнце по земле.
Просвечивает зелень листьев, Как живопись в цветном стекле.
В церковной росписи оконниц Так в вечность смотрят изнутри В мерцающих венцах бессонниц Святые, схимники, цари.
Как будто внутренность собора – Простор земли, и чрез окно Далекий отголосок хора Мне слышать иногда дано.
Природа, мир, тайник вселенной, Я службу долгую твою, Объятый дрожью сокровенной, В слезах от счастья отстою
[9, с. 453].
Образы начала стихотворения – природные: озеро, облака, небо, лес, трава, листья, ветер, солнце. Указанные образы «собирают» два важнейших – Неба и Земли. Главный образ – церковь (собор). Он конкретизирован цветными «оконницами» (церковными витражами), которые, кстати, поддерживают мотив света. Этот образ также указывает на связь земного и небесного, открывает небесное сквозь земное. Возникает и особый мотив небесной музыки: «далекий отголосок хора мне слышать иногда дано…». Все это рождает ту «сокровенную дрожь», которую можно связать с пафосом стихотворения. Конечно же, мотив службы поддерживает эту мировоззренчески значимую эмоцию. Необычно то, как сравнение стало развернутым главным образом текста. То, с чем сравнивались явления природы, вышло на первый план, но не отменило первоначальные образы.
Ритмический строй стихотворения, как чувствует читатель, подчеркнуто гармоничен. Стихотворение написано классическим четырехстопным ямбом с регулярно появляющимся дополнительным слогом, позволяющим обеспечить закономерное чередование женских и мужских окончаний, которое придает ритму естественность и гармонию. Рифмовка перекрестная на протяжении всего стихотворения. Рифмы в основном точные, но не скучные. Никаких интересных модернистских «упражнений» с рифмой нет, может быть, потому, что речь идет о сокровенных мгновениях и соответствующих чувствах. Что касается движения ритма, то можно обратить внимание на прием переноса, который используется в предпоследней строфе и предвосхищает состояние лирического героя последнего четверостишия («объятый дрожью сокровенной»). Это состояние особого волнения лирического героя. Дело в том, что в 6-м четверостишии не совпадают ритмические и синтаксические паузы: сокращаются паузы конца строк, появляются дополнительные в середине строк.
Важно обратить внимание на «положение» лирического героя в пространстве и во времени: есть движение от внешнего созерцания природных явлений к ощущению себя внутри событий бытийного уровня. Взгляд сначала обращен на то, что далеко, поэтому «озеро, как блюдо»; облака, как груда ледников; лес то горит, то на него набегает черная тень. Так можно смотреть на события, происходящие без твоего участия, вдали, там, где «играют» облака. И вдруг лирический герой оказывается «внутри» происходящего и становится частью этого общего трепетного восторга. Поэт не просто находится «внутри» мира, рассматривая его красоту, он находит и осознает себя в мире, которому причастен. Сливаются даль, близь, «я», сейчас и всегда. Это и есть те откровения жизни, запечатлеть которые в прозе стремились и Бунин, и Пришвин. Поэтам сделать это удается чаще и непосредственнее.
Название стихотворения явно «непоэтическое» - лексически и по строению фразы. Разговорное словосочетание в стихотворении о знаковых событиях жизни души не может быть случайным. Возможно, это знание о высоком, которое дарует природа, - не исключительное (только для поэтов, художников, философов). Поэт таким названием словно «заземляет» редкостное мгновение откровения природы, уверяя в том, что всем читателям «дано» это видеть и переживать, например, «когда разгуляется». Таким может быть имманентный читательский анализ поэтического текста, не отвлекающий, а концентрирующий внимание читателя на самом тексте.
При этом многие культурные знаки, коды и контексты для современного читателя, особенно неподготовленного, оказываются незнакомыми, образы - непонятными, смыслы - закрытыми. Поэтому и художественные тексты, например, Серебряного века представляются текстами «с отброшенным ключом» (М. Л. Гаспаров). Юному читателю бывает трудно эти «ключи» обнаружить самостоятельно, тем более что для этого нужны знания, общая культура и «труд читателя», которому так непросто научиться сегодня. В. Е. Хализев считает, что привлече- ние и изучение контекстов – это необходимое условие проникновения в смысловые глубины произведения: «Чем шире и полнее учтены <…> связи произведения с предшествующими ему явлениями и фактами, тем больше “выигрыва.т” анализ и интерпретация» [11, с. 292]. Контексты бывают ближайшие (творческая история произведения, биография автора, его личные связи) и удаленные (явления социо-культурной жизни, литературные традиции, опыт прошлых поколений, архетипы и т. д.). В книге Е. Г. Эткинда «Разговор о стихах», например, приводится пример контекстуального анализа поэтического текста через построение «лестницы контекстов» с целью прояснения смысла произведения [13].
Однако внимание к контекстам не должно быть доминирующим над пониманием самого текста, чье важнейшего свойство – целостность. В любом художественном тексте нет ничего лишнего. Любая деталь и подробность значимы. Практически чаще всего в читательском восприятии обращается внимание на «выделенность», необычность какого-то элемента формы. Если что-то выделяется автором, то это не просто формальность, а важный смысловой акцент. Текст всегда выполняет смыслообразующую функцию, являясь не только «конденсатором культурной памяти» человечества, но и «генератором новых смыслов» [7]. Проникновение вглубь смысловой структуры текста через особенности его формы часто обусловливает адекватность его понимания. А контекст может скорректировать или усилить смысловое звучание и наполнение формы.
Возможности формы и привлеченных контекстов, например, в стихотворении М. И. Цветаевой «Рассвет на рельсах» (1922) могут открыть читателям смысл во всей его полноте. Приведем текст целиком.
|
Покамест день не встал |
И – шире раскручу: |
|
С его страстями стравленными, |
Невидимыми рельсами |
|
Из сырости и шпал |
По сырости пущу |
|
Россию восстанавливаю. |
Вагоны с погорельцами: С пропавшими навек |
|
Из сырости – и свай, |
Для бога и людей! |
|
Из сырости – и серости. |
(Знак: сорок человек |
|
Покамест день не встал И не вмешался стрелочник. |
И восемь лошадей.) |
|
Так, посредине шпал, |
|
|
Туман еще щадит, |
Где даль шлагбаумом выросла, |
|
Ещё в холсты запахнутый |
Из сырости и шпал, |
|
Спит ломовой гранит, Полей не видно шахматных… |
Из сырости – и сирости, |
|
Из сырости – и свай… |
Покамест день не встал |
|
Ещё вестями шалыми |
С его страстями стравленными – |
|
Лжёт вороная сталь – |
Во всю горизонталь |
|
Ещё Москва за шпалами! |
Россию восстанавливаю! |
|
Так, под упорством глаз – |
Без низости, без лжи: |
|
Владением бесплотнейшим – |
Даль – да две рельсы синие… |
|
Какая разлилась |
Эй, вот она! – Держи! |
|
Россия – в три полотнища! |
По линиям, по линиям… |
|
[12, с. 212–213] |
Стихотворение Марины Цветаевой - сложное произведение, наполненное и общекультурной, и индивидуально-авторской ассоциативной образностью и символикой. Сгущенная образность текста, подтекст трудны для восприятия и не позволяют читателю открыть легко глубокий смысл стихотворения. Можно, казалось бы, не обращать внимания на частности, например, на год написания стихотворения. А ведь именно это уже является смысловым знаком текста, потому что напрямую соотносится с отъездом Цветаевой за границу. Ключевой смысл трагедии эмиграции не остается внимательным читателем в стороне. Заглавный комплекс стихотворения также нельзя интерпретировать буквально, не замечая символического подтекста. Образ рассвета на рельсах можно интерпретировать в социальном контексте как стремление лирического героя участвовать в восстановлении России после разрушений революции и гражданской войны. Отдельная - буквальная - трактовка слов «рассвет» и «рельсы» будет игнорировать целостный смысл образа. Если воспринимать название как единый образ-символ, то налицо совсем другой образный смысл, который открывается не сразу, а в процессе постепенного погружения в текст.
М. М. Бахтин писал: «Смыслами я называю ответы на вопросы. То, что ни на какой вопрос не отвечает, лишено для нас смысла» [1, с. 350]. При повторном чтении стихотворения «Рассвет на рельсах» приблизиться к смыслу текста через особенности его поэтики помогут встающие перед читателем-интерпретатором такие вопросы: что цепляет внимание в стихотворении, на чем останавливается глаз даже при первом чтении?
Прежде всего, это целый ряд образов и образных слов, которые поддерживают центральный символ «рассвет на рельсах» и работают на него. Среди них есть такие, которые повторяются в тексте, выделяются автором, поэтому их трудно не заметить. Это звуковые метафоры: «сырость», «серость», «сирость». Какие ощущения они вызывают? Сами по себе все эти образы негативные и вызывают ощущение какой-то убогости, бесприютности. Причем главным среди них является слово «сирость». Оно укрупняет два других слова. Вместе они создают мотивы бездомности, сиротства. То, что происходит с лирической героиней, происходит вне дома, в дороге. И это «что-то» рождает ощущение неопределенности, тревоги. В сознании четко обозначается образ дороги - общекультурный символ. Рассвет на рельсах - это отрезок жизни на определенном ее этапе в состоянии бездомности и бесприютности. Это - уход из дома. Куда? Зачем?
Многие стихотворения М. И. Цветаевой прямо или косвенно биографичны, хотя явно соотносить поэтический текст с биографическим контекстом все-таки нельзя. Всегда надо иметь в виду дополнительный смысл. В данном случае акцент на дате написания стихотворения (год эмиграции) несомненно важен. Несмотря на образы рассвета и пути-дороги, нет ни абсолютной уверенности в завтрашнем дне, ни торжества жизни.
Собирательный образ «погорельцев» - «пропавших навек для бога и людей!» - поддерживает мотивы бездомности и сиротства и рождает новые: мотивы сострадания и жертвы. И это уже не личное сиротство и бездомность. Лирический герой соотносит себя с судьбой тысяч и миллионов людей России, по сути, выброшенных из жизни. Подробность в выражении «Знак: сорок чело- век и восемь лошадей» наполняет эти мотивы поистине трагическим смыслом. Каким? Современному читателю трудно расшифровать этот знак. Но современникам М. И. Цветаевой он был понятен. Этот знак ставили на вагоны («сороковки»), обозначая тем самым, что в вагон вмещается 40 человек и 8 лошадей. В этих вагонах перевозили около ста человек ссыльных, набивая их до отказа! Теперь можно представить, с кем соотносит себя автор! И «серость», и «сырость», и «сирость», и «стаи» (скорее всего, речь идет о птицах, кружащих над полями с трупами убитых) тоже поддерживают и углубляют этот смысл.
Но Цветаева не была бы Цветаевой, если бы чувства отчаяния и страдания не соотносились бы с другими состояниями души. Внимание читателя останавливается на образах «шахматных полей» России – «в три полотнища», «горизонтали», «дали» «без низости и лжи». Читатель почувствует жажду надежды лирической героини, ее мощную «оглядку назад». Можно сравнить это стихотворение с другими, написанными об этом же «исходе» и свидетельствующими, какие неравные были состояния и настроения поэтессы в этот период жизни и творчества.
Особенно глубокий духовный смысл вносит в текст слово «восстанавливаю», на котором автор акцентирует внимание читателя, им открывая и им заканчивая стихотворение. Если это слово на лексическом уровне однозначно: восстанавливаю – значит «строю, создаю заново», то героиня М. Цветаевой может быть представлена как «строитель новой жизни», что придаст стихотворению банальное направление. На самом деле, слово «восстанавливаю» содержит образную рефлексивную семантику: восстанавливаю в своем сознании, закрепляю в своей памяти Россию в подробностях, ту, которую знаю и люблю и которая, может быть, уйдет, но в душе останется. «Восстанавливаю» «без низости и лжи» (это тоже внутренние качества, понятия этического плана) – лучшее, что есть в чувстве к Родине. «Восстанавливаю», пока не вмешался «стрелочник», «покамест день не встал с его страстями стравленными», пока «спит ломовой гранит».
Как это связано с «серостью», «сыростью», «сиростью»? Связано уже со знакомыми чувствами и состояниями лирической героини: страданием, тревогой, болью, отчаянием. Образ «стрелочника», конечно, нельзя соотносить ни со Сталиным, ни с каким-то другим конкретным лицом, что часто может воспринять читатель. «Стрелочник» – собирательный образ, символизирующий тех, от кого в какой-то степени зависит судьба России. Лирическая героиня еще не хочет видеть («туман еще щадит…») того, что произошло, потому что внутри, в ее сознании «разлилась Россия – в три полотнища!» И это – совсем другая картина! Сочетание «три полотнища» большинство читателей тоже могут сегодня трактовать буквально – по ассоциации с флагом (полотнище – флаг). Однако строчка «И – шире раскручу…», идущая следом, просит совсем иного смысла. Какого? В словаре В. И. Даля читаем: «Полотнище ср. – часть ткани, обоев, войлока или иной подобной вещи, во всю ширину» [5, c. 440]. Автор усиливает смысл сочетания, выделяя его при помощи тире и восклицательного знака. Благодаря этому в воображении рисуется образ шири необъятной, огромного пространства «во всю горизонталь». Это образ России, которую ничто не может заслонить (ни
«ломовой гранит» – образ холодного, грозного Петербурга, ни «вороная сталь» – образ оружия) и про которую хочется помнить, любить и сохранить в сердце.
Какой представляется лирическая героиня? Если обратить внимание на мощные глаголы: «восстанавливаю», «пущу», «раскручу», которые создают облик духовно сильного человека, то смысл названия стихотворения будет восприниматься не только согласно чувствам ностальгии, надрыва, страдания, отчаяния, но и вопреки им, так как остаются и надежда, и эмоциональный напор, и мощь, и вера…
Читатель приобщается, постигает мироощущение и миропонимание поэта, растворенного в поэтике стихотворения, и удается это в результате погружения в текст, обогащения знания о мире, о других людях и о себе. Погружаясь в поэтику сложных поэтических текстов и открывая адекватные контексты, читатель-интерпретатор желает одного: испытать эстетическое наслаждение от поэзии, постигать смыслы текста, вступив в диалог с автором, открывая новые смыслы в себе, сохраняя удивление от многогранности и глубины поэтического слова.
Список литературы От поэтики и контекстов - к смыслу: о возможностях восприятия и интерпретации поэтического текста
- Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. 445 с.
- Гаспаров М. Л. Русские стихи 1890-х – 1925-го годов в комментариях. М.: Высшая школа, 1993. 272 с.
- Гаспаров М. Л. «Снова тучи надо мною…» Методика анализа // М. Л. Гаспаров. О русской поэзии. СПб., 2001. С. 11–26.
- Гуковский Г. А. Изучение литературного произведения в школе. М.; Л.: Просвещение, 1966. 265 с.
- Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М.: ООО «Изд-во Астрель», 2003. Т. 3. 921 с.
- Есин А. Б., Касаткина Т. А. Система эмоционально-ценностных ориентаций // Филологические науки. 1994. № 5–6. С. 10–19.
- Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб.: Искусство–СПБ, 2000. 704 с.
- Маранцман В. Г. Анализ литературного произведения и читательское восприятие школьников. Л.: ЛГПИ им. А. Н. Герцена, 1974. 175 с.
- Пастернак Б. Л. Стихотворения и поэмы. М.: Художественная литература, 1990. 511 с.
- Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. М.: Языки русской культуры, 1997. 824 с.
- Хализев В. Е. Теория литературы. М.: Высшая школа, 1999. 378 с.
- Цветаева М. И. Стихотворения и поэмы. Л., 1979. 575 с.
- Эткинд Е. Г. Разговор о стихах. СПб.: Детгиз, 2004. 240 с.