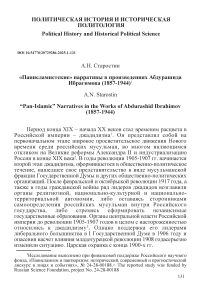«Панисламистские» нарративы в произведениях Абдурашида Ибрагимова (1857–1944)
Автор: Старостин А.Н.
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: Политическая история и историческая политология
Статья в выпуске: 1 (83), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье проанализированы взгляды татарского религиозного деятеля конца XIX - начала XXвека Абдурашида Ибрагимова, занимавшего пост имама мечети г. Тара Тобольской губернии и казыя Оренбургского магометанского духовного собрания, на основе ряда его произведений, ранее не переводившихся на русский язык. Он рассуждает о судьбе и будущем мусульман, проживавших в Российской империи, и взгляды эти носят откровенно антироссийский характер. Являясь сторонником идеи панисламизма, находился в оппозиции к имперскому и большевистскому правительствам, стал одним из первых успешных проповедников ислама в Японии. Между тем, вызывает опасение, что сегодня его произведения переиздаются на татарском языке, в его честь проводят научно практические конференции, современные исследователи его биографии стремятся создать ему положительную репутацию. Данная статья представляет собой попытку дать объективную оценку политических взглядов А. Ибрагимова.
Пантюркизм, панисламизм, российская империя, народы, ислам
Короткий адрес: https://sciup.org/149147704
IDR: 149147704 | DOI: 10.54770/20729286-2025-1-131
Текст научной статьи «Панисламистские» нарративы в произведениях Абдурашида Ибрагимова (1857–1944)
“Pan-Islamic” Narratives in the Works of Abdurashid Ibrahimov (1857-1944)
Период конца XIX – начала ХХ веков стал временем расцвета в Российской империи – джадидизма1. Он представлял собой на первоначальном этапе широкое просветительское движения Нового времени среди российских мусульман, во многом являющимся откликом на Великие реформы Александра II и индустриализацию России в конце XIX века2. В годы революции 1905-1907 гг. начинается второй этап джадидизма, оформившегося в общественно-политическое течение, нашедшее свое представительство в виде мусульманской фракции Государственной Думы и других общественно-политических организаций. После февральской и октябрьской революции 1917 года, а также в годы гражданской войны ряд лидеров джадидов возглавили органы религиозной, национально-культурной и национальнотерриториальной автономии, либо оставаясь сторонниками самоопределения российских мусульман внутри Российского государства, либо стремясь сформировать независимые государственные образования. Органы центральной власти Российской империи до революции 1905-1907 годов в целом с настороженностью относились к джадидизму3. Однако поддержка его лидерами либерального большинства в I Государственной Думе в 1906 году и опасения насчет влияния младотурецкой революции 1908 годасерьезно и зменили ситу ацию. Царская охранка с конца 1900-х гг.
в целом связывала рост числа джадидов и их все возрастающую политическую активность с влиянием идей панисламизма и пантюркизма4, который она мыслила во многом по аналогу с панславизмом5. Первая представляла собой идеологию объединения всех мусульман под эгидой халифа, которым в то время был султан Османской империи, вторая - идеологию объединения всех тюркских народов под эгидой той же Османской империи, ядро которой составляла турецкая нация. Насколько это влияние имело место, до сих пор является предметом споров среди историков, но в Российской империи именно люди, стоявшие на джадидистской позиции, были взяты в разработку органами политической полиции.
Оценка деятельности Абдурашида Ибрагимова
Одним из ярких представителей джадидизма, который не скрывал своих панисламистских взглядов, был выходец из Сибири Абдурашид Ибрагимов, известный также как Абд ар-Рашид Ибрахим (1857-1944).В отличие от других татарских религиозных деятелей конца XIX – начала ХХ века, Абдурашиду Ибрагимову посвящено относительно небольшое число работ6. Обобщив представленную в данных публикациях информацию, приведем краткую биографию А. Ибрагимова для того, чтобы понять, что повлияло на его взгляды, которые будет исследованы ниже.
Потомственный имам, чей прадед построил в г. Тара первую в Сибири каменную мечеть, получил религиозное образование в медресе Российской и Османской империй, там он углубил свои теологические познания и усовершенствовал языковые навыки в арабском и турецком языках, а также перенял идеи образовательных реформ, предложенные министром просвещения Османской империи Муниф-пашей, которые сочетали европейские методы и исламские ценности. Этот период оказал значительное влияние на его мировоззрение, и А. Ибрагимов стал активным сторонником панисламизма, идеологии, выступающей за духовное и политическое единство мусульман. На рубеже XIX – XX веков был имамом и мударисом в г. Тара, казыем и временным председателем Оренбургского магометанского духовного собрания, одним из основателей партии «Иттифак аль-муслимин» («Союз (единство) мусульман»), которая сумела провести своих депутатов в Государственную Думу, издателем ряда мусульманских газет, в которых подвергал острой критике политику царского правительства в отношении мусульманских подданных Российской империи. А. Ибрагимов много путешествовал и его жизнь может лечь в основу остросюжетного приключенческого романа. Он поддерживал мусульман в Ливии в 1911 году во время войны Италии и Османской 132
империи, взаимодействовал с правительством младотурков, объездил много стран Азии, призывая мусульман к борьбе за освобождение от колониального гнета, боролся за права нерусских народов России на международной арене, выступил одним из основателей ислама в Японии6.
Американский исследователь А. Халид объясняет этот феномен следующим образом: «Газеты породили следующее явление – возросшую и более быструю корреспонденцию людей и все возрастающее количество путевых заметок как особого письменного жанра. Путешествия позволяли обмениваться опытом и идеями,-несмотря на политические границы. Они создали фигуру странствующего активиста, архетипом которого является Джамалуддин Афгани, хотя его слава несправедливо затмевает славу многих других, включая двух представителей следующего поколения, которые представляют особый интерес …сибирского татарина Абдурашида Ибрагимова и индийского мусульманина Абдул Хафиза Мохаммеда Баракатуллы. Абдурашид Ибрагимов (1857–1943), родившийся в г. Тара в Западной Сибири, получил российское исламское образование, прежде чем отправиться в хадж, после чего он прожил в Медине несколько лет, закончив свое обучение и усовершенствовав свои знания арабского языка. Он вернулся в Тару в 1885 году и стал учителем. Разногласия с властями заставили его снова покинуть Российскую империю в 1892 году. Он провел два года в Стамбуле (за это время он написал несколько антироссийских трактатов) и много путешествовал по Европе, прежде чем вернуться в Россию. Он был активным сторонником татарского модернизма, но снова уехал в 1907 году, отправившись на восток, на этот раз в Маньчжурию, Корею и Японию, где он провел семь месяцев в 1909 году. Затем он отправился по суше в Стамбул, посетив по пути Китай, Индокитай и Индию. Двухтомный отчет о его путешествиях, опубликованный по частям между 1910 и 1913 годами, является вехой в османской литературе путешествий. Его лекции об жизни мусульман в разных частях мира собирали огромные толпы в Стамбуле и других местах. Он был активен на протяжении всей Первой мировой войны. Падение как османского, так и российского режимов между 1917 и 1918 годами также изменило его жизнь, и он вернулся в Россию и работал в антиколониальном направлении. В конечном итоге разногласия с большевиками вынудили его покинуть страну и вернуться в Японию, где он прожил до своей смерти в 1943 году»7.
Отечественные исследователи, писавшие об Абдурашиде Ибрагимове, чаще всего дают ему либо нейтральные, либо комплиментарные оценки. Татарстанский исследователь Ф.Ф. Галимуллин называет А. Ибрагимова «последователем» аль-Афгани и одним из «ведущих деятелей» татарского народа наряду с И. Гаспринским, Г. Баруди, Р. Фахретдиновым, М. Бигиевым, Ф.Карими, Ш. Культяси, К. Тарджемани, З. Камали, Г. Буби, Д. Абзгильдин, З.Кадыри8. Тюменский исследователь Х.Ч. Алишина характеризует его, как «ученого, просветителя, публициста, общественного деятеля»9, другой тюменский исследователь К.Б. Кабдулвахитов называет его «известным татарским политиком и религиозным деятелем»10, «проницательным» человеком и «первым мусульманским политиком дореволюционной России»11, публицист Б. Башкурди называет его «личностью, которая вписала свое имя в историю уммы», который «защищал интересы мусульман в Европе и Азии, на Дальнем Востоке, Японии и в Китае»12. Наиболее лестную оценку дает ему татарстанский политик-историк националистического толка Ф.А. Байрамова: «…если кто-нибудь из зарубежных мусульман высокомерно спросит: «Есть ли у татар богословы, внесшие свой вклад в распространение и укрепление ислама во всем мире?» можно с гордостью ответить «Да, есть. Это Абдуррашид Ибрагимов и Муса Бигиев. Об Абдуррашиде Ибрагимове можно с уверенностью сказать, что – это первый татарский геополитик мирового масштаба, в сферу деятельности которого входили не только решение насущных татарских проблем, но так же вопросы глобальной политики, включая роль ислама на мировой арене. Он наш первый национальный политик и идеолог политического ислама мирового масштаба… мыслил он глобальными категориями. Его знают в Турции, Египте, Сирии, Иордании, Японии, Германии, Франции и Англии. Чтят Абдуррашида Ибрагимова и в его родном сибирском городке Тара, где недавно прошли юбилейные торжества в честь его 150-летия»13.
В 1990-2000-е годы ему усилиями ряда историков и журналистов был создан позитивный образ, в то время как содержание его трудов, взглядов и характер действий носили откровенно конфронтационный характер. В настоящее время фиксируются попытки мемориализации его фигуры, придания ей высокого общественного статуса как «исследователя и пропагандиста ислама». Так, летом 2024 года «В г.Таре Омской области прошли Ибрагимовские чтения»: «17 июня 2024 г. специалистами Центра татарской культуры ОНК «Дом дружбы» были организованы и проведены II Краеведческие чтения имени Габдрашида Ибрагимова, посвященные знаменитым личностям татарского народа Тарского Прииртышья. Имя Габдерашида Гумеровича Ибрагимова стоит рядом с именами известных татарских общественных и политических деятелей начала XX века, сыгравших важную роль в жизни татарского народа. Он стал свидетелем всех крупных исторических событий первой половины
XX века в России и в мире. Он был ученым-исследователем и неутомимым пропагандистом основ ислама. Его перу принадлежат сведения по истории, этнографии, фольклору татар, других тюркских и нетюркских народов, собранные им во время его многочисленных путешествий. Центр татарской культуры хранит память и уважение к выдающемуся общественному и религиозному деятелю, нашему земляку – Габдрашиту Гумеровичу Ибрагимову для будущих поколений»14.
Высказываются и следующие инициативы: «Есть идея назвать одну из улиц города Тара именем знаменитого мусульманского религиозного деятеля Габдерашида Гумеровича Ибрагимова, родившегося здесь. Но пока нет новых улиц, в 1990-е – 2000-е годы, когда шло строительство новых домов, такая возможность теоретически была, но никто об этом не задумывался», – рассказал в интервью автору статьи имам-мухтасиб и председатель Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман Омской области (Омский мухтасибат) в структуре ДУМ РФ Радик (Ахмад-Ратиб) Шайхлисламович Ахметов15.
Ибрагимов оставил обширное литературное наследие. Назовем лишь некоторые его сочинения: Автономия яки идараимөхтәрият. СПб., 1906; Тәрҗемәихәлем: автобиография. СПб., 1907; Alemi-i İslam. İstanbul, 1910; Tarihin Unutulmuş Sahifeleri. Berlin, 1933; Abdürreşidİbrahim, Özalp, Ertuğrul (изд.); Âlemi-i İslâmveJaponya’dais lâmiyet’inyayılmasıTürkistan, Sibirya, Moğolistan, Mançurya, Japonya, Kore, Çin, Singapur, UzakHindadaları, Hindistan, Arabistan, Dâru’l-Hilafe; İstanbul, 2003 (İşaret); Abdürreşidİbrahim, François Georgeon (перев., изд.); Un Tatarau Japon –voyageen Asie (1908–1910); [Arles] 2004 (ActesSud-Sindbad).
Отдельные работы переведены на современный татарский язык16 [19, 20], однако на русском языке до настоящего времени ни одного из его произведений не издано. В то время как труды других татарских богословов активно переводятся на русский язык и публикуются. В последние годы на русском языке вышли произведения Ш. Марджани17, А. Курсави18, М. Бигиева19, Г. Утыз-Имяни ал-Булгари20, З. Расулева21, Р. Фахретдина22 и многих других.
Одно из самых известных произведений А. Ибрагимова «Мир ислама и распространение ислама в Японии». Нами использовался наиболее полный вариант, доступный на арабском языке, «Альаляму ль-исламийюваинтишарульислами филь йабан. Музаккарату Абдиррашид Ибрихим. Тарджамату Камал Хаваджа. Мураджаату Ад-дуктури Салих Махди Ассамираи Аль джузульавваль. Матбуатульмарказильисламийи филь йабан» («Мир ислама и распространение ислама в Японии»). Составитель Абдурашид Ибрахим. 1328 год хиджры. Перевод Камала Хаваджи.
Консультирование доктор Салех Махди аль-Самарая. Часть 1. Публикация мусульманского центра в Японии) объемом 156 страниц23. Часть представленной в данном произведении информации идентична той, что изложена в книге «Вокруг света», изданной на современном татарском языке: Ибраhимов Г. Дәyрәгаләм (Донья тирәли). Тәржемәихәлемю. Казан, 2001.
Данный труд, еще не известный русскоязычному читателю, является, одним из немногих источников, из которого можно узнать подробности о религиозной культуре и обычной жизни мусульман Российской империи начала ХХ века (1907-1908) не из официальных источников, а от самих мусульман, ибо в книге запечатлены наблюдения, диалоги, которые вел автор с единоверцами в разных городах Российской империи, особенно в ее Азиатской части – на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Его путевые заметки показывают, что мир мусульман Азиатской части России не был замкнутым, а являлся органичной частью общероссийской мусульманской уммы. С этой точки зрения, книга представляет значительный источниковедческий интерес для исследователей истории российских мусульман. Некоторые её фрагменты были введены в научный оборот на русском языке Д.Р. Гильмутдиновым (относительно исламской системы образования в Российской империи)24, Л.Р. Усмановой (относительно Японии)25и автором настоящей статьи (относительно жизни мусульман Дальнего Востока Российской империи)26.
Ниже будут проанализированы политические взгляды А. Ибрагимова в отношении идей общемусульманского единства, взаимоотношения с российской властью и другими народами, высказанные в этом труде.
«Панисламистские» взгляды
А. Ибрагимова на примере произведения «Мир ислама. Распространение ислама в Японии»
По словам Ибрагимова, ему была важна общественная жизнь в интересах своей нации, которую он понимал в рамках более широкого понятия – «нации ислама». Анализ этого произведения дает возможность зафиксировать две основные оценочные линии: 1) критику по отношению к тем мусульманам, которые активно взаимодействуют с русскими; 2) апологетика по отношению к исламу и исламскому образу жизни, олицетворением которого является Османская империя.
Например, описывая контракты между русской и мусульманской частями среднеазиатских городов, А. Ибрагимов пишет:
«Несмотря на то, что это один город [речь о Ташкенте], один правитель, общий одинаковый для всех налог, а большая часть жителей – мусульмане, собранные от мусульманских домохозяйств средства тратятся на строительство дорог для христиан. Такова ситуация не только в Ташкенте, но и в других районах Туркестана. Например, российский Самарканд процветающий, а исламский Самарканд похож на болото. Российский Коканд – город организованный и процветающий, а в мусульманском Коканде ходить было невозможно по дороге. Российский Маргилан называется так не зря, а исламский Маргилан был не достоин названия исламского. Я видел, что власть находится у русских. Они возглавляют города, они тратят все средства, которые принадлежат всему народу, на строительство своих дорог. Что бы ни случилось с мусульманскими дорогами, они не расходуют на них ни копейки, нет там ни тротуаров, ни освещения» [здесь и далее цитаты по 28]. По его мнению, неравенство проявлялось на уровне закона: «Для мусульманской части населения Туркестана эти [российские] законы не были так хороши, как для русских. Все правила, которые действовали в Туркестане, были в пользу русскоязычного населения. Как я говорил прежде, Ташкент являлся территорией России, но ташкентцы не имели российского гражданства (правильнее – подданства). Имеет место сказать, что мусульманин-ташкентец является пленником, потому что к нему не относятся как к гражданину».
Также он критикует татар за то, что они принимали участие в присоединении Средней Азии к Российской империи: «Ситуация в Ташкенте и других городах Туркестана странная и удивительная. В Ташкенте проживает много татар, приехавших из России. Можно увидеть во всех областях Туркестана татар, которых туркестанцы называют «ногаи». Даже в соотношении с ними не было равенства. Большинство татар было в российской армии, которая оккупировала Туркестан. Они пришли в Туркестан вместе с российскими солдатами и воевали против своих братьев по религии. После оккупации Туркестана они остались жить там, после того как пролили кровь своих братьев-мусульман».
Посещая Среднюю Азию, А. Ибрагимов критически рассуждает о национальной политике Российской империи, противопоставляя её национальной политике на территории Османской империи: «В последние годы русские стали селиться на этой территории. Большой поток людей из России был направлен в Туркестан. Это обычай России с древних времен, когда Россия хочет доминировать над страной, прежде всего она стремится в смешивании населения этой страны с русскими. Это очень серьезная политика по управлению над страной, поэтому для переселения русских правительство потратило миллионы. Стоит задать вопрос – это закончится или нет? В России, в таких областях, как Уфа, Казань, Нижний Новгород, татары живут с русскими, а русские составляют большинство. Тем не менее, среди татар наблюдается подъем национального достоинства. На какое-то время русские сделали значением слова «татарин» – «мерзкий». Они смогли обмануть некоторых дураков-татар, сказав, что слово «татарин» означает «волхв», поэтому некоторые бедные татары отстранились от своей принадлежности к татарской нации, чтобы их не называли волхвами и сказали: «Мы мусульмане, не татары». Даже до сих пор татары считают, что татарский язык – это мусульманский. Нужно сказать, что совмещение людей [разных национальностей] маловероятно. Даже христианство запрещает это. Знающие историю, этот факт не отрицают. Дело не только в татарах и бухарцах. Даже в Малороссии и Белоруссии [жители] не смешивались с русскими и никогда не будут смешиваться и объединяться, даже если будут говорить по-русски и будут вместе соблюдать национальные и религиозные обычаи. Ислам очень помог в арабизации евреев на Аравийском полуострове, алавитов в Сирии, коптов в Египте, эфиопов и берберов в Африке. Они до такой степени забыли свои родные языки и национальности, что стали сторонниками арабского нации. Таким образом, справедливое управление,не связанное с захватом и оккупацией, приводит к хорошему результату».
Покинув Среднюю Азию и оказавшись в казахских степях, А. Ибрагимов рассуждает о политике российской администрации в отношении казахов: «Казахи стали укреплять ислам в своих сердцах. Несмотря на несправедливость русских, казахи не предприняли ничего, но при необходимости были готовы бороться. Русским не нравилось, что больше 10 миллионов казахов являются мусульманами. Такое отношение очень беспокоило братьев-казахов. Правительство все еще относится к ним жестоко, попыталось сделать некоторых христианами, но результат будет в пользу казахов. Эта несправедливость будет длиться, пока в самой России есть авторитарное правление. Можно сказать, что некоторые дураки и мерзавцы начали исповедовать христианство. Ученые и народ долго не будут терпеть эту несправедливость. Настанет день, когда люди получат свои законные права. Русские, захватив Казахскую степь, контролировали их пастбища. Уровень животноводства стал низким, но это временная ситуация. Обязательно придет день, когда русские уйдут туда, откуда пришли».
Очень своеобразно он рассуждает и о российском казачестве, говоря о том, что попытка их «обрусения» российскими властями оказалась неудачной: «Российское правительство в течение многих лет практиковало теорию совмещения народов, но переселение не 138
дало желаемого результата. Русские казаки, которые переселились с берегов Дона на берега Иртыша, все приняли ислам… казаки – это земледельцы… Русские хотели из них сделать русских людей, но не смогли, они остались казаками. Сейчас видно, что … казаки, которые поселились в казахской степи, забыли свои религиозные обычаи. Они больше едят лошадиное мясо, чем коренные казахи, помимо того, что религией запрещено есть лошадиное мясо. Они забыли свой родной язык и выучили казахский. Это живая история перед Россией. Помните об этом! Невероятно, что кто-то изменит свою нацию и станет русским».
Сибирь, как и Средняя Азия, согласно А. Ибрагимову, «оккупирована» русскими. Только в одном абзаце это слово встречается три раза: «Из книг зарубежных историков и из мусульманских народных рассказов известно, что ислам пришел в Сибирь из Бухары и Хивы до русской оккупации. Сегодня в Тобольске и Томске существует около трех тысяч семей, которые называют себя бухарцами. В 1582 году, когда Сибирь находилась в оккупации у русских, иммигрировало большое количество мусульман из центральных городов России, с Урала и из Оренбурга в Сибирь. В это время приехало и много ученых, что привело к стабильному росту числа мусульман. Люди с гордостью приняли ислам, сделали это по собственному желанию. На сегодняшний день по статистике число мусульман в одной только Тобольской губернии более ста тысяч. Татары, коренные жители Сибири до русской оккупации, жили на правом берегу реки Иртыш, для того чтобы заниматься рыбалкой и охотой. Охотились они на волков, лис и других животных с ценным мехом, а потом продавали кожу и мех животных в Среднюю Азию. Об урожае они не задумывались. Сегодня Сибирь входит в состав России».
Во время поездки в поезде вместе с французом и австрийцем, он говорит об отрицательном влиянии русских и христианства на татар: «чем объясняется большое количество нуждающихся татар. Татары являются потомками тюрков, которые, в свою очередь, очень чистоплотные, чего не скажешь о татарах. Османские тюрки заботятся о чистоте, потому что чистота является одним из столпов ислама. Но произошло смешение христиан с мусульманами». А также сравнивает политику Франции по отношению к мусульманам Алжира с политикой Российской империи по отношению к своим мусульманским подданным: «Француз спросил: много ли татар учится в вузах России. Я ответил, что один на миллион, чему француз очень удивился. Я сказал, что учебный процесс в России не предназначен для воспитания людей, а направлен на увеличение ортодоксальности. Был задан вопрос, много ли у нас школ и много ли людей умеют читать и писать. Я ответил, что развито только начальное образование, и только 50-60 процентов являются грамотными. Правительство не разрешает открывать средние и высшие школы, только в последние годы открылись несколько медресе, которые удовлетворяют потребности. А на два миллиона человек всего восемь депутатов в Государственной Думе. Пользуясь возможностью, я сказал своему попутчику: «Когда у вас сила, вы о справедливости не заикаетесь. Вы, французы, относитесь к мусульманам Алжира, как к диким животным: оскорбляете их религию, нарушаете права человека. Если себя ведет так такая цивилизованная нация, как французы, тогда мы не должны винить русских за их действия». Похоже я обидел своего попутчика. То, что европейцы называют цивилизацией – это просто маскировка или средство контролирования людей».
Во время поездки по Сибири он вновь оказался в одном купе с европейцем и не преминул вступить с ним в теологический спор, чтобы доказать превосходство ислама над христианством: «По мнению соседа, права и обычаи – вещи разные. Женщины Востока сегодня абсолютно свободны. Они имеют одинаковые права с мужчинами. Среди европейских женщин нет ни генералов, ни дипломатов. Их доля в наследстве является одной седьмой частью. В исламе женщины имеют право наследовать половину доли мужчин. Какой же из законов справедливее? В то время, как мы разговаривали, к нашему разговору присоединились две женщины. Я продолжил: «Это не является защитой прав женщин, использовать их слабость и оставить ни с чем, прикрываясь словами о цивилизации, при этом использовать их ради своего сексуального удовлетворения. Ислам запрещает такое отношение к женщинам». Одна из женщин сказала, что слабый никогда не сможет защитить себя от сильных. Я поддерживаю ее мнение. В христианстве женщины сняли с головы платки или паранджу, растоптали их права. Мужчины не женятся на женщинах, а гоняются за богатством, нагло спрашивают у отцов, сколько он получит за женитьбу. Девушкам, не имеющим ничего, запрещено жениться. Другая женщина добавила, что в исламе вопрос ношения паранджи жестче. Женщинам в исламе живется у себя на родине свободнее. Им запрещено только быть наедине с чужими мужчинами и все женщины-мусульманки довольны своей жизнью, им не на что жаловаться. Но вернемся к религии. Между религией и обычаями есть разница. Сосед привел пример: в христианстве поп прощает все грехи человеку, который приходит к нему. Но ведь это тяжело, пойти к попу, признаться во всех грехах. А если совершил грех кто-то из поповской семьи, дети или жена, как они пойдут к попу признавать свой грех. Как же это должно быть трудно для человека. Одна из женщин сказала, что это просто чудовищно, а другая не поверила в это.
Моя точка зрения такова: пока этот вопрос состоит в требовании религии, ни один человек не будет истинным христианином, даже если верит в христианство. Постепенно к нашему разговору присоединились другие пассажиры вагона».
Во время своего путешествия А. Ибрагимов стремился встретиться со всеми, кто был оппозиционно настроен по отношению к Российскому правительству. В Томске он познакомился с лидером сибирских областников Григорием Николаевичем Потаниным, а, находясь в Иркутске, отправился на встречу с Чойнзон-Доржи Иролту-евым (1843–1918) – бурятским религиозным деятелем, эмчи-ламой (врачом) тибетской медицины, Пандито Хамбо-ламой XI, главой буддистов Восточной Сибири в 1896-1911 годах. После сердечного знакомства (Хамбо-лама сказал, что слышал о А. Ибрагимове во время поездки в Санкт-Петербург) и рассказа об основах буддизма, буддийский религиозный деятель якобы сказал: «Политическая жизнь и социальное положение народа бурятов очень странное. Чужестранцы приехали из России господствовать над нашей цивилизацией и политической жизнью. Наше имущество, наши духи и наша религия – все в руках у русских. Мы потеряли свою структуру. Этика людей ухудшается день за днем. Наши люди обречены на вымирание. Среди наших потомков быстро распространилась безнравственность. Если никакой помощи нам не будет оказано и моральной поддержки, то нас ожидает вымирание. Все, живущие граждане России кроме русских находятся в отчаянии. Наш народ слабее, его меньше, потому на нас нападают и несправедливо к нам относятся».
«Далее, – пишет А. Ибрагимов, – он затронул тему христианских миссионеров. Я попросил его рассказать о влиянии миссионеров: Существуют периоды, когда многие буряты принимали христианство, но спустя какое-то время сожалели об этом. В последнее время вернулось около семи тысяч, но кто по-настоящему знают буддизм, никогда не примут христианство, таких случае не было. Некоторые невежественные люди приняли христианство, либо из-за русских красивых девушек, либо ради их богатства, или чтобы избавиться от зла правительства. У каждого свои причины на это».
Обсудили мусульманин и буддист и земельный вопрос у бурят. А. Ибрагимов передает следующие слова Пандито Хамбо-ламы: «Нельзя распределить земли в каждой области в одних и тех же масштабах. Если внутри России дать человеку немного гектаров земли, то ему хватит этого, чтобы обеспечить себя и свою семью, а в Казани и в Уфе каждому человеку нужно пятнадцать гектаров земли, чтобы обеспечить свою семью. А у нас в Сибири на одного человека надо 30 гектаров. Распределение земли по 10 гектаров на каждого бурята, это значит оставить их умирать от голода. Несмотря на все это, правительство России предусматривает такое распределение. Земли у нас отбираются, хотя мы имеем документы, подтверждающие право собственности на эти земли. Этот закон распространяется на все районы Сибири».
В завершении беседы А. Ибрагимов отмечает: «Когда я объяснил ему насколько для меня важна была встреча с ним, то он отве-тил,что теперь считает меня братом по крови».
Аналогичного содержания беседа завязалась у А. Ибрагимова с якутом, с которым он вместе ехал в поезде: «Сосед из Якутии сказал мне, что он меня давно знает, читал мои статьи и поделился со мной своим мнением, что все русские обречены, в этом состоит политика России. У якутов и бурят нет будущего, эти нации вымирают, молодежь Якутии очень распущенна. Причиной упадка является злоупотребление алкоголем, которое после оккупации русских увеличилось в несколько раз. До оккупации употребляли местное вино, которое готовилось из молока и не вредило здоровью. А сейчас изготавливают водку на основе чистого спирта».
Таким образом, в своем сочинении он напрямую отождествляет российскую политику на своей территории с колониальной политикой европейских держав, рассуждает о негативной роли, которую сыграли русские и принесенное ими христианство в судьбе ряда народов, населявших Российскую империю, прямо говорит о превосходстве ислама над христианством. Он мечтает о том, чтобы народы Российской империи, прежде всего, обрели права и свободу.
О том, каким методом этого можно было достичь, говорится в одном из архивных документов«Предварительное следствие, произведенное Судебным следователем Казанского окружного Суда по особо важным делам. По делу о панисламистской пропаганде. Протокол №56: «17 февраля 1911 года обыск у Оренбургского мещанина Мухамет Камала Музафарова. Изъято 4 экземпляра книг на татарском языке «Мунда-бер-хадис» (Тысяча одно изречение Пророка) издания А. Ибрагимова ... заключает в себе вольное толкование А.Ибрагимовым изречений Пророка, которые сами по себе ничего преступного не заключают; толкование же Ибрагимовские в высшей степени вредны, т.к. под видом священных изречений самого Пророка подстрекают к неповиновению Правительству, подготовлению к восстанию и вообще вселяют панисламистские идеи среди мусульман. Для подтверждения изложенного привожу точный перевод некоторых статей:
Статья 464 «Стрельба из луков самое лучшее препровождение времени». Толкование же Ибрагимова следующее – «Во времена нашего Пророка оружие состояло из луков и стрел, другого оружия не было, почему и было им поощряема стрельба из луков. В насто- ящее время другое оружие – ружья и револьверы и стрельбе из них необходимо обучиться. Стрельба и владение оружием есть высокое искусство и необходимо обучать этому и детей. Все мусульмане должны представлять из себя одно войско. Каждый мусульманин есть воин, и когда явится необходимость взяться за оружие, тогда старые и молодые все равны. Нерадеющий обучаться и обучать владеть оружием есть грешник перед Богом.
Статья 557 «Обучайте детей ваших плаванию и стрельбе из луков. Самое лучшее время препровождение для мусульманок, это прядение ниток. Когда обратиться к тебе одновременно отец и мать отвечай сначала матери». Толкование же Ибрагимовым следующее: «Если бы мы хорошо поняли смысл этих священных изречений, тогда бы мы были вне всякой опасности и сумели бы охранить себя от злобы христианских государств. Если мы будем обучать наших детей владеть военным оружием, упражнять их в стрельбе и умении владеть саблей, тогда дети всех мусульман в нужное время могли бы употребить оружие и тогда Государи всего мира боялись бы нас. Когда бы мы умели плавать на водах по морям и рекам, тогда христиане никогда бы нас не оскорбили. Для защиты достоинства и чести Ислама каждый мусульманин обязан ознакомиться с современными военными науками».
Статья 848 «Кто взмахнул на вас саблей, он не из наших, т.е. не из последователей ислама. Толкование же следующее — «Наши солдаты из российских мусульман во время войны на поле битвы для возвышения славы безверия, для уничтожения своих братьев мусульман, для уничтожения корней ислама подымает сабли. Это по шариату и по разумению воспрещено. После Магомета среди мусульман до ста лет была тишина и покой, но после этого в течении 1200 лет они стали употреблять сабли друг против друга, но тогда воевали между собой из-за халифата, в настоящее же время этого нет, а потому мы, не воюя из-за халифата, истребляем самих себя. Мы только помогаем своим врагам, но это есть истребление самих себя. Мы только помогаем своим врагам и просим только себе вред. Нас довело до этого незнание и непонимание.
Если мусульмане все это обсудят, то тогда не будет более употреблять меч против своих братьев мусульман. Мы, повинуясь Российскому государству, истребили корни туркестанских ханств, теперь осталось только одно мусульманское правительство, а мы теперь вместе с русскими стараемся истребить и его корни. Для свержения этих обстоятельств достаточно иметь разум. Мы ничего не видим, ничего не понимаем, а российское правительство в вознаграждение за нашу верность отняло все наши права, нашу волю и религию. Мы ничтожны, наши муллы проповедовали о верности правительству, но это прошло уже, откроем же глаза и объединимся! Пусть Аллах переменит к лучшему конец нашего дела!»
Статья 860 «Кто сеет раздор, тот не из наших». Толкование следующее: «Из этого священного изречения можно сделать много выводов. Кто сеет раздор между двух мусульман, двух братьев, двух друзей или между мужем и женой тот не последователь пророка, а кто сеет раздор между великой нацией или ее отдельными племенами и мусульманскими обществами егоположение еще безнадежней. Корень Ислама зиждется на единении, основы ислама – это признание единства Бога. Кроме этого еще несколько статей Аль-Кора- на и изречений Магомета призывает всех мусульман к единению». В дальнейшем говорится, что падение всех ханств в России, падение Хивы, Бухары и Кавказа только и объясняется разногласием и отсутствием объединения среди мусульман, которые не пожелали объединиться с Турцией для отражения общего врага мусульман России. Толкование этого заканчивается следующим призывом: «Эй, дедушки, мусульмане! Если у нас единый путь, то лишь в единении и согласии, кромеэтого ничего нет! Братья, вникнув в смысл священного изречения, мы должны не останавливаться перед жертвою своей жизни для единения! Аллах, дай нам лучший конец»27 [19, с. 226-229].
Отвечая на вопрос о причинах отсутствия переводов трудов Ибрагимова на русский язык можно предположить, что дело в их специфической политической направленности, яркой критике положения мусульман в иноэтничном и иноконфессиональном окружении. Безусловно, на рубеже XIX – начала ХХ века выходило большое количество работ, критиковавших самодержавие, но, знакомясь с газетными публикациями и литературными трудами А. Ибрагимова, не перестаешь удивляться не только жесткой критике царского правительства, но и в целом русского народа, а также сетованиям на «несчастную судьбу мусульман, оказавшихся российскими поданными».