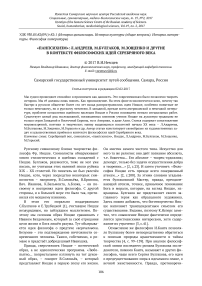"Панпсихизм": Л. Андреев, М. Булгаков, М. Зощенко и другие в контексте философских идей Серебряного века
Бесплатный доступ
Мы судим прошедшее спокойно и принимаем как данность. Это современникам было позволено творить историю. Мы её должны лишь понять. Как произведение. На этом фоне психологически ясно, почему так быстро в русском обществе более ста лет назад распространились идеи Ницше, особенно понятные не только немецкому, но и русскому читателю. В западной, прежде всего американской и немецкой литературе, проблеме осмысления идейного наследия Ницше в России посвящено немало специальных работ. Существует целый ряд исследований, посвященных влиянию учения Ницше на духовную традицию не только стран Западной и Восточной Европы, но и Америки, и даже Азии. Статья содержит сопоставление мировоззрений, поэтики и творческих манер выдающихся писателей начала ХХ века - Л.Андреева, М.Булгакова, М.Зощенко, М.Горького и др. Автор статьи констатирует своеобразие их художественных задач и художественных приёмов в контексте философских идей Серебряного века.
Серебряный век, символизм, "панпсихизм", ницше, л.андреев, м.булгаков, м.зощенко, м.горький
Короткий адрес: https://sciup.org/148102471
IDR: 148102471 | УДК: 930.85:82(091)+82:1
Текст научной статьи "Панпсихизм": Л. Андреев, М. Булгаков, М. Зощенко и другие в контексте философских идей Серебряного века
Русскому символизму близко творчество философа Фр. Ницше. Символисты обнаруживают много стилистических и идейных схождений с Ницше. Булгаков, разумеется, тоже не мог уже писать, не учитывая этих явлений эпохи рубежа XIX – XX столетий. Но писатель не был увлечён Ницше, хотя, через посредство некоторых символистов – например, В.Соловьёва, В.Брюсова, Вяч. Иванова, К.Бальмонта, А.Блока, – он по-своему и воспринял идеи философа. С другой стороны, и в большей мере это было так, противился его мощному влиянию.
В этом его морально поддерживали С.Булгаков и Е.Трубецкой [1], считавшие Ницше незаурядным, но заблудшим мыслителем. Поэтому мы склонны образ Ницше сравнивать с Иваном Бездомным, который за своё отрицание цели жизни и Бога лишён разума. Тут обыгрывается идея философа о предтече сверхчеловека . Безумие – это подтверждение ничтожности современного человека. Таким, собственно, в романе и предстаёт добродушный Иванушка.
Правда, сверхчеловек Ницше – поэтический образ, а не идеологическая программа. «Любопытно… попристальнее взглянуть на тот духовный образ, – говорит В.Соловьёв, – который представляет Ницше в первую эпоху его жизни.
Он мистик самого чистого типа. Искусство для него та же религия: оно даёт познание абсолюта, т.е. божества... Его абсолют – творец-художник; демиург, только без задачи осуществления добра в творении…» [2, с.23]. И затем уточняет: «Философия Ницше есть прежде всего совершенный атеизм…» [2, с.200]. За этими словами угадывается булгаковский Мастер, правда, преодолевающий атеизм, точнее, привычное понимание Бога и морали, которые, на взгляд Ницше, извращены. Булгаков же представляет своего заглавного героя как образцового художника. Здесь можно добавить, что боготворчество Ницше наполняет трансцендентным смыслом его существование. Видимо, поэтому К.Ясперс заметил, что «мышление Ницше фактически определяется христианскими интересами, хотя содержание их утрачено» [3, с.41].
Осмысление же философии И.Канта позволяло Булгакову более непосредственно обратиться к поискам природы нравственности и тайны творчества [4, с. 99–139]. При анализе философской линии последнего романа Булгакова исследователи, помимо Канта, называют и других философов, чаще всего Сергия Булгакова, его идеи о предсуществовании мира в идеальном плане, о вечной женственности. Правда, противоречи- вость С.Булгакова, считавшего, что христианство не нуждается в личности Христа, даже избегавшего Христа в своих сочинениях, вряд ли привлекала такую цельную натуру, как М.Булгаков.
Однако обращение писателя к философским проблемам не означало, конечно, соответственного оснащения художественных образов философскими символами. Философия в романе отражается в характерах, во взаимоотношениях между героями. Поэтому герои Булгакова – идеологичны: и Алексей Турбин, мучившийся вопросом «как жить?», и Максудов, боявшийся больше всего «пятен» на совести. Но уже Турбин-старший в своих идейно-нравственных исканиях пересмотрел былые взгляды на религию, на церковь; он словно опустился на землю из «сентиментальных» высот. В «закатном романе» новое, ставшее даже частью жизненного опыта, понимание героями религиозных догм и вообще христианского учения показано более развернуто. Вопрос «как жить» в «Мастере и Маргарите» расширяется и углубляется в целую философскую проблему, сформулированную Воландом: «ежели Бога нет, то, спрашивается, кто же управляет жизнью человеческой и всем вообще распорядком на земле?». Сердитый ответ Бездомного: «Сам человек и управляет», – отвергается Воландом не только на словах, но и на деле: Берлиоз, которому было точно известно, что он делает в этот вечер, внезапно попадает под трамвай, как это и предсказывал «иностранец» (14). Впрочем, единственный свидетель Бездомный уверял, что тот Мишу Берлиоза «нарочно пристроил» (69) под трамвай.
Известно, что в семье Булгаковых много читали сочинения Ницше. Но больше того, коллеги доцента Киевской духовной академии А.И.Булгакова, отца писателя, занимались их осмыслением, что наверняка не могло пройти мимо гимназиста Михаила [5]. И юный писатель, конечно же, не обошёл вниманием тех волнующих молодых романтичных мыслителей вопросов, которые в отрочестве представляются наиболее важными. Свет – это святость, жизнь в горних сферах. Покой – это смерть, вечное искупление. Хотя в романе содержится и другое, более глубокое развитие этой темы. Сейчас распространённое понимание расстановки главных персонажей отражено в простом делении на «ведомства» – «света» и «покоя». Например, «свет» – это жизнь, подведомственная Богу. А царство мёртвых, «покой» – в руках Воланда. В романе же нам видится несколько иной альянс: Воланд отвечает за весь посюсторонний мир, а также за смерть; Иешуа представляет светлые стороны действительности, он сохраняет их ростки. Бог-отец видит и знает всё, он даже готов всецело поддержать Сына. Однако жизнь людская протекает не в райских кущах, но в борьбе разных начал, которые доказывают свои права на существование.
И, что нам сейчас ещё важнее, так это высказать убеждение в том, что наличие философских мотивов в произведении побуждает читателя настроиться на волну серьёзной пафосности, «воспоминаний о будущем» [6], мыслей о судьбоносности истории.
Один из исследователей, ныне покойный, заметил, что булгаковский Дон Кихот, олицетворяющий «абсолютную духовность» [7, с.156], очи-щенность от бытовых забот, воплощает уходящее начало. В связи с этим уже на рубеже XX в. встал вопрос о месте русской интеллигенции [8, с.158]. И вывод здесь безотраден: «Ход истории показал, что русская интеллигенция в большинстве своём оказалась с Великим Инквизитором» [7, с.158]. Нам кажется, это обстоятельство может объяснить только философия Ницше. Тем более, что лишь немецкий философ может пояснить, почему «наступает время посредственности» [7, с.159].
Мы судим прошедшее спокойно и принимаем как данность. Это современникам было позволено творить историю. Мы её должны лишь понять. Как произведение. На этом фоне психологически ясно, почему так быстро в русском обществе более ста лет назад распространились идеи Ницше, особенно понятные не только немецкому, но и русскому читателю. Среди адептов социального мифа, известного под названием «богостроительство», выступают революционный романтик Максим Горький и два литературных критика марксистского толка: неизвестный нынешнему читателю Андреевич (Евгений Андреевич Соловьев, 1867–1905) и А.В.Луначарский.
Восходу звезды Горького сопутствовала шумиха вокруг ницшеанства в 1900-е годы, и критики тут же отметили сходство миросозерцания русского писателя и немецкого философа. Центральные персонажи многих босяцких рассказов Горького, таких, как «Мальва», «Бродяга», «Чел-каш», – «благородные» преступники. Все они выступают в роли невольных разбойников, предпочитающих сей удел рабству. Преступность в рассказах Горького – это протест против угнетающих социально-экономических условий и порожденных этими условиями извращений морали [9, с.318].
Присуще Горькому тяготение к сильным, ярким, своевольным сторонам человеческой натуры оставалось неизменным на протяжении всей его творческой жизни. Постепенно эти качества синтезировались во всеобъемлющее утопическое представление о свободном, справедливом и продуктивном обществе. Преступные побуждения, порывы к насилию у его «мечтателей» (Сокол из «Песни о Соколе» (1895) и Фома Гордеев в «Фоме Гордееве» (1899) обращены вовнутрь. «Мечтатель», как и человек вне закона, несёт в себе черты бунтаря: он протестует против фальши, общепринятой морали. В трёх произведениях Горького «Ошибка» (1896), «Читатель» (1898) и «Человек» (1904), впервые на первый план выходят идеи об изменениях в общественной жизни, «первопроходцем», «перводвигателем» которых становится свободный «творец», не зависящий от покровителей.
Горький нашел более внушительную литературную программу в ленинской статье 1905 года «Партийная организация и партийная литература». Ленин призывал писателей воспевать героический рабочий класс и поднимать его политическую сознательность. Он провозглашал: «Долой литераторов беспартийных! Долой литераторов сверхчеловеков». Только объединившись с коллективом и Партией, художник сможет участвовать в выковывании будущего. Некоторые ницшеанские работы Горького продолжали жить в качестве популярной революционной литературы вопреки неодобрительному отношению к ним Короленко и других критиков либеральнонароднической ориентации. Как «Песню о Соколе», так и «Человека» часто читали на собраниях и митингах. В 1919 году красноармейцы шли в бой под знамёнами с лозунгом «Безумству храбрых поём мы песню».
Горький пытался внушить свою революционно-романтическую позицию ряду литературных группировок. Некоторое время он поддерживал связь с писателями-модернистами из круга «Северного вестника». Несколько дольше – с Л.Н.Андреевым, И.А.Буниным, А.И.Куприным и другими писателями из московского литературного кружка «Среда», но ему не удалось обратить их в свою веру. Идея Горького о художнике-вожде вызывала наибольшие симпатии у таких марксистских литературных критиков, как Андреевич и Луначарский. Но главное – Горькому удалось повести за собой ряд молодых писателей, назвавшихся учениками, – М.М.Зощенко, И.Э.Ба-беля, Ю.К.Олешу, А.П.Платонова.
Зощенко книги Ницше мог читать взахлёб: по свидетельству В.В.Зощенко, зима 1918 года прошла у него «под знаком Ницше» [10, с.15]. И позднее, в марте 1920 года своими любимейшими книгами Зощенко назвал книги Блока и немецкого философа. Имена Зощенко и Ницше сопрягает в своих воспоминаниях Ю.Олеша: «Это грустный человек, человек, чаще всего повторяющий фразу Ницше о «жалкой жизни, жалких удовольствиях» [11, с.256].
Ницшевские рассуждения о рефлектирующей, но «нездоровой» цивилизации и здорового, но аморального «варварства», о «воле к жизни» повлияли на его творчество и определили писательский путь. Такое разделение героев появляется в рассказе «Сосед», написанном в 1917 году. Затем уже в рассказах «Любовь», «Подлец», «Коза», «Люди», а позднее – в повести «Возвращённая молодость».
Уже в «допечатном», «рукописном» [12, с. 6] периоде намечается реализация мотива зверя, с которым связывается идея насилия (повесть «Рыбья самка», философская сказка «Каприз короля», фельетоны «Чудесная дерзость» и «Чудесная мерзость», повесть «Серый туман»). К середине 20-х годов мир Зощенко – это мир всепобеждающего «звериного», то есть, антикультурного, начала. Юношеские философские представления писателя проявились в «Сентиментальных повестях», в «Возвращенной молодости» и в особенности – в повести «Перед восходом солнца», где открыто говорится о «кричащем звере» в человеке. Повесть Зощенко «Талисман», пародийное повествование в стиле пушкинских «Повестей Белкина», можно прочитать как «осмеяние страдания» – давний завет Горького.
Зощенко одержим глубоким психоанализом и перевоспитанием характера. Об этом – его зрелые повести, и в этом он – последователь Горького и Ницше. Внимание к болезни и её преодоление – от Ницше. В «Возвращённой молодости» им ставится задача: провести «капитальный ремонт» всего организма. Есть роман Л.Соболева с таким же названием, где речь идёт об основательной перестройке военного флота как части общества. Правда, Н.В.Гоголь тоже ратовал за «оздоровление организма», но размах был не тот. Там проблема личная, тут – социальная. Зощенко обращается ко всем читателям разом, он намерился им всем сразу помочь. Разность установки обоих писателей видна хорошо: болезнь Гоголя была источником его творчества и таланта, болезнь и излечение Зощенко служили социальной миссии литературы.
Ницше создаёт типологию морали, выражая убеждение в том, что мира идеалистов больше не существует. Но, быть может, самое существенное в ницшевской переоценке ценностей – его концепция аскетизма, в которой разграничивается «философский аскетизм» и «аскетический идеал» священника. Священник хочет утвердить свою ущербность ценою разрушения самой жизни. Таким образом, проповедуемая им любовь оборачивается мстительностью. Это всё непосредственно можно отнести к герою Булгакова Левию Матвею – «слепому» «рабу» [13, с.127].
Почему Мастер не дописывает до конца роман в течение своего земного бытия? Писатель не свободен в своем творчестве. Он не может сказать того, чего не знает. И пока «Мастер» не переступил черту своего земного опыта, он не знает, есть ли где-то нечто, что «разрешит» «диссонансы» человеческого существования. Он узнает это только по ту сторону границ земного опыта.
Однако загадочны в этом отношении многие темы, которые вряд ли встретились бы в жизни. В пьесе И.Свево (Звево) наблюдается момент сходства с романом Булгакова: это – тот же постоянно повторяющийся мотив комедии, что и лейтмотив в романе «Мастер и Маргарита». Речь идет о мотиве отрезанной головы, раздавленной в пьесе Свево под колесами автомобиля. В комедии образ отрезанной головы вновь появляется и в метафорическом выражении: «триестинские воры настолько ловки, что смогли бы сорвать с плеч самую осторожную голову, да так, что её владелец и не заметил бы». «Это – случайное, но курьёзное предвосхищение мотива отрезанной головы, который встречается в «Мастере и Маргарите» [14, с.201].
Можно это назвать «панпсихизмом» [15, с. 229–237]? В «древних» главах вряд ли – здесь присутствуют вполне узнаваемые признаки русского реализма. В главах же о «современной Москве» приёмы андреевского панпсихизма встречаются на каждом шагу – такова эпоха и таков её выразитель булгаковский «автор-творец». У него есть и философский предтеча, на которого указал А.Зеркалов: апокалиптические настроения конца 1910 – 1920-х годов отразил философский труд Освальда Шпенглера «Закат Европы» [16].
-
1. Булгаков, С. Иван Карамазов (в романе Достоевского «Братья Карамазовы») как философский тип // Вопросы философии и психологии. 1902. № 61. Январь-февраль. С. 826–863; Трубецкой, Е.Н. Философия Ницше: критический очерк. М., 1904. Эта работа переиздана в сб.: Ницше: Pro et contra. СПб., РХГИ, 2001. С. 672–793.
-
2. Соловьёв, В. Словесность или истина? // Фридрих Ницше и русская религиозная философия: переводы, исследования, эссе философов «Серебряного века»: в 2 т. Минск; М., Алкиона, Присцельс, 1996. Т. 1. С. 23.
-
3. Ясперс, К. Ницше и христианство. М., Медиум 1994. С. 41.
-
4. О понятии настоящего искусства, которое в своей основе глубоко нравственно, а также „самосознании великого писателя” в последнем романе Булгакова, см. в нашей кн.: Михаил Булгаков: становление романиста. Самара, Изд-во Сарат. ун-та, Самар. фил., 1991. С. 99–139.
-
5. Назовём две важные в этом ключе книги на эту тему, судя по всему, имевшиеся в библиотеке богослова: Экземплярский В. За что меня осудили? Киев, [б. и.], 1912; Экземплярский В. Евангелие Иисуса Христа перед судом Фр. Ницше: Популярные чтения. Пг., Религия и жизнь, 1915. Киевская исследовательница называет также Н.К.Маккавейского, который, как и А.И.Булгаков, преподавал в Академии и работа которого «Археология истории страданий Господа Иисуса Христа», впервые опубликованная в «Трудах КДА» за 1890– 1891 гг., имелась в личной библиотеке писателя и послужила впоследствии одним из богословских источников романа «Мастер и Маргарита», см.: Алексеева, А.П. Традиции Киевской Духовной Академии в творчестве М.А.Булгакова // Мысль, слово и время в пространстве культуры. Вып. 2: межвуз. сб. науч. трудов, посвященный 90-летию проф. В.А.Капустина / редкол.: П.П.Алексеев (отв. ред.) и др. Киев, Аграрна наука, 2000. С. 177.
-
6. Есть фильм фон Деникена с таким названием, о загадочных явлениях нашей планеты, позволяющих поверить в посещение Земли инопланетными пришельцами. – В.Н.
-
7. Грубин, А. Дом и Дорога: ещё раз о пьесе Михаила Булгакова «Дон Кихот» // Михаил Булгаков на исходе XX века: материалы VIII междунар. Булгаковских чтений. СПб., [б. и.], 1999. С. 156.
-
8. Здесь называется имя Вл. Соловьёва. «Именно в его трудах впервые возникает образ духовного подвижника, искушённого в умном деянии», – отмечает А.Грубин. См.: Михаил Булгаков на исходе XX века... С. 158.
-
9. См.: Троцкий Л. Кое-что о философии «сверхчеловека» // Михаил Булгаков на исходе XX века: мат. VIII междунар. Булгаковских чтений. СПб., [б. и.], 1999. С. 318.
-
10. Зощенко, В. Так начинал М.Зощенко // Воспоминания Михаила Зощенко. Л., Художественная лит-ра, 1990. С. 15.
-
11. Олеша, Ю.К. Зависть. Ни дня без строчки. Рассказы. М., Известия, 1989. С. 256.
-
12. Чудакова, М.О. Поэтика Михаила Зощенко. М., Наука, 1979. С. 6.
-
13. См.: Немцев, В.И. Михаил Булгаков: становление романиста. Самара, Изд-во Сарат. ун-та: Самар. фил., 1991. С. 127.
-
14. Джулиани, Р. Тема омоложения в европейской литературе 1920-х годов: М.Булгаков и И.Свево // Лингвистика и культурология: сб. науч. трудов. М., МГУ, 2000. С. 201.
-
15. Джулиани, Р. Леонид Андреев – художник «панпсихизма» : (Теория и практика лицом к лицу в рассказе «Бездна») // Леонид Андреев: Материалы и исследования. М., Наследие, 2000. С. 229–237.
-
16. См.: Зеркалов, А. Лежащий во зле мир // Знание—сила, № 5, 1991. С. 38; Немцев, В.И. Предметный мир в пьесах М.А.Булгакова // Михаил Булгаков на исходе ХХ века: мат. VIII междунар. Булгаковских чтений. СПб., [б. и.], 1999. С. 18–19.
“PANPSYCHISM”: L.ANDREEV, M.BULGAKOV, M.ZOSHCHENKO AND OTHERS IN THE CONTEXT OF THE SILVER AGE PHILOSOPHICAL IDEAS
Список литературы "Панпсихизм": Л. Андреев, М. Булгаков, М. Зощенко и другие в контексте философских идей Серебряного века
- Булгаков, С. Иван Карамазов (в романе Достоевского «Братья Карамазовы») как философский тип//Вопросы философии и психологии. 1902. № 61. Январь-февраль. С. 826-863
- Трубецкой, Е.Н. Философия Ницше: критический очерк. М., 1904.
- Ницше: Pro et contra. СПб., РХГИ, 2001. С. 672-793.
- Соловьёв, В. Словесность или истина?//Фридрих Ницше и русская религиозная философия: переводы, исследования, эссе философов «Серебряного века»: в 2 т. Минск; М., Алкиона, Присцельс, 1996. Т. 1. С. 23.
- Ясперс, К. Ницше и христианство. М., Медиум 1994. С. 41.
- Михаил Булгаков: становление романиста. Самара, Изд-во Сарат. ун-та, Самар. фил., 1991. С. 99-139.
- Экземплярский В. За что меня осудили? Киев, , 1912
- Экземплярский В. Евангелие Иисуса Христа перед судом Фр. Ницше: Популярные чтения. Пг., Религия и жизнь, 1915.
- Алексеева, А.П. Традиции Киевской Духовной Академии в творчестве М.А.Булгакова//Мысль, слово и время в пространстве культуры. Вып. 2: межвуз. сб. науч. трудов, посвященный 90-летию проф. В.А.Капустина/редкол.: П.П.Алексеев (отв. ред.) и др. Киев, Аграрна наука, 2000. С. 177.
- Грубин, А. Дом и Дорога: ещё раз о пьесе Михаила Булгакова «Дон Кихот»//Михаил Булгаков на исходе XX века: материалы VIII междунар. Булгаковских чтений. СПб., , 1999. С. 156.
- Троцкий Л. Кое-что о философии «сверхчеловека»//Михаил Булгаков на исходе XX века: мат. VIII междунар. Булгаковских чтений. СПб., , 1999. С. 318.
- Зощенко, В. Так начинал М.Зощенко//Воспоминания Михаила Зощенко. Л., Художественная лит-ра, 1990. С. 15.
- Олеша, Ю.К. Зависть. Ни дня без строчки. Рассказы. М., Известия, 1989. С. 256.
- Чудакова, М.О. Поэтика Михаила Зощенко. М., Наука, 1979. С. 6.
- Немцев, В.И. Михаил Булгаков: становление романиста. Самара, Изд-во Сарат. ун-та: Самар. фил., 1991. С. 127.
- Джулиани, Р. Тема омоложения в европейской литературе 1920-х годов: М.Булгаков и И.Свево//Лингвистика и культурология: сб. науч. трудов. М., МГУ, 2000. С. 201.
- Джулиани, Р. Леонид Андреев -художник «панпсихизма»: (Теория и практика лицом к лицу в рассказе «Бездна»)//Леонид Андреев: Материалы и исследования. М., Наследие, 2000. С. 229-237.
- Зеркалов, А. Лежащий во зле мир//Знание-сила, № 5, 1991. С. 38
- Немцев, В.И. Предметы материальной культуры в пьесах Булгакова//Михаил Булгаков на исходе ХХ века: мат. VIII междунар. Булгаковских чтений. СПб., , 1999. С. 18-19.