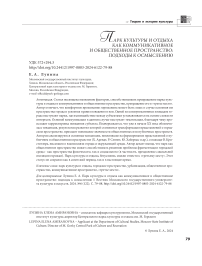Парк культуры и отдыха как коммуникативное и общественное пространство: подходы к осмыслению
Автор: Лупина Е.А.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 6 (122), 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена выявлению факторов, способствовавших превращению парка культуры и отдыха в коммуникативное и общественное пространство, превращение его в «третье место». Автор отмечает, что комфортное проживание горожанина может быть лишь в случае освоения им пространства города и усвоения правил поведения в нем. Одной из коммуникативных площадок города выступают парки, где взаимодействие между субъектами устанавливается на основе схожести интересов. Основой коммуникации в данном случае выступает тематизация, благодаря чему происходит корректировка поведения субъекта. Подчеркивается, что уже в начале ХХ века обозначилась тенденция, результатом развития которой становится трансформация представлений о городском пространстве, приходит понимание значимости общественных или публичных пространств. Автором анализируются основные концепции, повлиявшие на формирование представлений о публичном и общественном пространстве (Х. Арендт, Р. Сеннет, Ю. Хабермас и др.), о подходе В. Кристеллера, писавшем о взаимосвязи города и окружающей среды. Автор делает вывод, что парк как общественное пространство может способствовать решению проблемы фрагментации городской среды как пространства физического, так и социального (в частности, преодоление социальной изоляции горожан). Парк культуры и отдыха, безусловно, можно отнести к «третьему месту». Этот статус он сохранял как в советский период, так и в настоящее время.
Парк культуры и отдыха, городское пространство, урбанизация, общественное пространство, коммуникативное пространство, «третье место»
Короткий адрес: https://sciup.org/144163317
IDR: 144163317 | УДК: 572+294.3 | DOI: 10.24412/1997-0803-2024-6122-79-88
Текст научной статьи Парк культуры и отдыха как коммуникативное и общественное пространство: подходы к осмыслению
Массовая урбанизация как тенденция четко обозначилась лишь после 1950–1960-х годов. До этого момента, безусловно, наблюдался рост городского населения, но даже в момент индустриализации и связанным с ней притоком рабочей силы в 1900 году лишь 1/10 часть населения проживала в городе [5].
Для понимания специфики паркового пространства на современном этапе следует еще проследить формирование понятия «публичное пространство» и выявить взаимосвязь человека и городской среды.
Одной из первых публичное пространство как феномен начала изучать Х. Арендт, которая говорила, что оно может выступать в двух вариантах, первое из которых связано с всеобщей открытостью, а второе противостоит приватной жизни человека. Она под- черкивала, что «для людей жизнь, как говорит латынь – язык, пожалуй, самого глубоко политического из всех нам известных народов, – равносильна пребыванию среди людей (inter homines esse)» [1, с. 15]. Ю. Хабермас отмечал, что публичное пространство образуется в том случае, когда свободные граждане в этом месте имеют возможность высказать собственную позицию относительно вопросов политики, социальных и культурных вопросов. То есть публичное пространство можно трактовать как место, где формируется общественное мнение.
Однако есть и другой подход к трактовке публичного пространства, рассматриваемого как пространство социального взаимодействия. В этом отношении интересна позиция Р. Сеннета, рассматривающего публичное в контексте города и выявляющего динамику взаимоотношений приватного и публичного. Он отмечает, что городской «человек воспринимался как незнакомец, по крайней мере, в течение определенного времени. Незнакомец, о котором мало что можно узнать, даже порасспросив его о тех или иных фактах его биографии» [9, с. 71]. Сеннет полагал, что, испытывая дискомфорт от публичности городской среды, человек начал прятаться в семье. Публичное, с точки зрения Сеннета, трансформируется лишь в место перемещения или передвижения. Он подчеркивает, что «когда публичное пространство становится функцией движения, оно теряет всякое независимое, основанное на опыте собственное значение» [9, с. 23]. Таким образом, «самое важное, что характеризует публичную сферу, – это что в ней происходит. И это – собрание незнакомцев, которое делает возможным определенные виды активности, которые нельзя себе представить или нельзя реализовать в приватной сфере» [9, с. 260]. То есть публичное пространство перестало быть местом свободного общения, а публичная жизнь приобретает безличностный характер.
Одним из первых о взаимосвязи города и окружающей среды еще в 1930-е годы начал писать В. Кристеллер, заложивший основы городской географии и территориального планирования. Фокус рассмотрения им городского пространства был смещен в сторону контекста или ситуации, благодаря чему город начинает трактоваться как экономический элемент системы городов одного региона. Его интересовали не столько рельеф местности и ее ресурсы, не только взаимоотношения между городами одного района, которые до этого чаще всего рассматривали лишь через выявление между ними иерархических отношений, сколько функционал города как географически-экономической единицы. Центральным местом В. Кристеллер называет процветающий город, от которого расходятся центробежные силы, оказывающие воздействие на «окраинные» города региона [14].
«Начиная с 1960-х гг. городская среда/ пространство становились предметом пристального интереса гуманитариев разных направлений, что, бесспорно, связано с трансформацией подхода к осмыслению города как социокультурного феномена, которая обусловлена рядом причин. Среди них можно назвать и активизировавшуюся в ХХ веке урбанизацию, и формирование общества потребления, и четко обозначившуюся тенденцию, направленную на создание в городах комфортной среды обитания, и усиление влияния культуротворческого фактора, выступающего одним из свойств человека и связанного с его преобразующей жизнедеятельностью» [10, с. 95]. В начале 1960-х годов, опираясь на подход В. Кристеллера, свою концепцию представил Ж. Готтманн. Изучая города США (от Бостона до Вашингтона), он вводит понятие «мегаполис», имея в виду, прежде всего, все территории, на которых они располагались. Он рассматривает их как единую систему, указывает на их взаимосвязь, что и продуцирует целостность данного прибрежного района, куда он включает Нью-Йорк, Филадельфию, Балтимор и другие города, которые объединены названием Северо-Восточный коридор. Однако, в отличие от Кристеллера, который все-таки опирался на вертикализа-цию, поскольку структурирование им пространства происходило в контексте дихотомии «центральное место – окраина», Готтманн говорит о горизонтальных отношениях между городами Северо-Восточного побережья. Он подчеркивает, что расположенные рядом города постепенно стремятся к слиянию [13].
Опора на междисциплинарность, без которой невозможно было бы проводить анализ городского пространства, становится основой для всех последующих исследований. Так, О. Дольфюс, введший термин «миро-система», подчеркивает, что важную роль в глобализационных процессах играют мегаполисы. Именно от их взаимодействия, а не привлечения ресурсов периферии, зависит развитие. То есть, отталкиваясь от теории Готтманна о взаимосвязи в развитии крупных городов Северо-Восточного побережья, Дольфюс от локального экстраполирует эту идею на мировое пространство. Таким образом, если Кристеллер писал о том, что процветание города во многом зависит от использования им окраинных регионов, то Готтманн и Дольфюс исходят из взаимоотношений «центр – центр», а мегаполисы, участвующие в этом диалоге, представляют своего рода «кооперацию» (термин А. Бран-денбургера и Б. Налебуффа). П. Вельц назвал это «экономикой архипелага», П. Тейлор – «всемирной городской сетью».
Параллельно исследованию феномена городского пространства появились работы, посвященные взаимосвязи природы и человека. Человек включен в природную среду, или биотический порядок, но при этом он является частью порядка культуры. То есть ему присуща двойственность: с одной стороны, он выступает как часть природы, биологическое существо, с другой стороны, человек есть существо социальное. Двойственность его природы продуцирует и два направления в его деятельности: как живое существо он должен создать благоприятные для себя условия жизни, а, следовательно, ему свойственно «стремление покорить природу, преодолеть ограниченность физических возможностеи» ̆ . Человек «снова и снова подталкивает развитие техники и в конечном счете приводит к возникновению «технокультуры», в которои ̆ по-новому определяются место «природы» и сущность “человеческои ̆ природы”» [5, с. 11]. «Люди подчинены двум совершенно разным типам принуждения: природным необходимостям и культурным давлениям («игу обычая»)» [8, с. 14]. Кроме того, поведение человека включает как индивидуальный, так и коллективный компонент. Они взаимосвязаны, поскольку коллективный аспект формируется за счет индивидуального поведения человека. При этом коллективное поведение должно стать индивидуальным для его членов.
Сложившимся теориям «была противопоставлена идея городов, удобных для жизни. При этом признаком удобного для жизни го- рода признавалось сочетание здоровой̆ экономики и стабильных социальных отношений с гуманитарно-ориентированной городской̆ средой̆» [2, с. 27]. Постепенно происходил и отказ от районирования, поскольку подобная модель предполагала отсутствие в так называемых «спальных кварталах» общественных пространств. Концентрированное проживание в одном районе лишь одной социальной группы может приводить и к негативным последствиям (в частности, в районах с дешевым жильем, которые населяют бедные слои населения, отмечается рост преступности, а, следовательно, возникает необходимость повышения затрат на охрану).
При подобном зонировании или геттои-зации городская среда сегментируется, поэтому необходимо было выявить тот элемент, благодаря которому появилась бы возможность преодолеть фрагментарность городского пространства. Им оказалось общественное или публичное пространство, однако «доминирующие идеологии городского планирования, в частности, модернизм, прямо не придавали большого значения развитию общественных зон города, проблемам пешеходов и роли городского пространства как места встреч горожан» [3, с. 3]. Следовательно, возникла потребность пересмотреть отношение к этому компоненту городской среды.
Изначально публичным пространством был лишь центр города, который выступал местом встреч разных социальных групп. Оно выступало отражением социабельно-сти как свойства личности, готовой коммуницировать с незнакомцами, указывало на степень ее включенности в социальную среду. Однако постепенно, в том числе, и благодаря развитию автомобилизации, выросла доступность той или иной точки города, что привело к нивелированию границ между центром, выступавшим в предыдущий период «ядром», вокруг которого развивалась городская среда, спальными районами и пригородом. Основной задачей при проектировании транспортной инфраструктуры мегаполиса выступает сокращение автопотоков в центре, для чего реализуется комплекс мер: рост парка общественного транспорта и возведение пересадочных станций, сокращение количества парковочных мест в центре и повышение их стоимости. В связи с этим число горожан, приезжающих в центральную часть, сократилось (исключением выступают общегородские праздники).
Немаловажным фактором в перестройке городского пространства мегаполиса является и экономика. Стоимость земельных участков в центре города намного выше, нежели в других, поэтому многие застройщики начали делать выбор в пользу периферийных районов (именно там стали размещать торгово-развлекательные и офисные центры, магазины и кинотеатры). Кроме того, крупные предприятия и производства начали переносить за городскую черту, что также связано с высокой арендной ставкой.
Кроме того, следует отметить трансформацию представлений о значимости парковых пространств. Если в предшествующий период парк трактовался как «обретенный рай», он имел четкие границы, сегодня противоположение между ним и городом фактически отсутствует. Парковое пространство органично вписано в городскую среду, которая старается отказаться от советского наследия, где культурный ландшафт имел лишь один вектор развития «центр – периферия».
Комплекс указанных факторов приводит к необходимости организации общественных пространств и в других городских районах. Поскольку Великобритания и США раньше других столкнулись с последствиями урбанизации, то к середине 1880-х годов здесь возникает идея открытия сеттльментов, предназначенных, главным образом, для детей из бедных семей, которые могли в них с пользой проводить время, пока их родители работали (Тойнби-Холл в Англии, Сетлемент и клуб Томаса Шю в США). Они представляли своего рода кварталы, где проживали бы представители разных социальных групп и располагались места для проведения досуга. Для детей были созданы все условия для комфортного развития, начиная от яслей и детских садов, заканчивая купальнями и гимнастическими залами, читальными.
Один из таких сеттльментов, Халл-хаус, в 1887 году в Чикаго создает будущий Нобелевский лауреат премии мира Дж. Аддамс. На формирование ее взглядов влияние оказали Л. Н. Толстой и его трактовка христианства, Ч. Диккенс, описывающий жизнь бедноты. С ее точки зрения, сетлемент есть пространство, где формируются новые культурные связи и расширяются установленные обществом границы культуры. Она полагала, что подобные места должны стать территорией, где представители различных культур и религий могут выстраивать диалог и искать общие принципы и идеи для совместной реализации (в этом районе жили преимущественно иммигранты). Поселившись в Халл-Хаусе, Дж. Аддамс начала, собирая эмпирический материал, проводить исследования по вопросам, связанным с поисками причин усталости и прогулов, типичных для бедных слоев населения болезней. Постепенно Халл-Хаус разросся до 13 зданий, где располагались ясли, тренажерный зал, бюро занятости, вечерняя школа, курсы по переподготовке. Кроме этого, в сетлементе для жителей района показывались театральные постановки и устраивались концерты. Дж. Аддамс была уверена, что именно творчество способствует нивелированию установленных обществом границ, а благодаря участию в творческих мероприятиях жители города демонстрируют коллективное взаимодействие, раскрывая тем самым многообразие городского пространства. Только такое взаимодействие, с ее точки зрения, может способствовать формированию здорового общества, культурная идентичность которого может основываться на вариативности. Таким образом, Халл-Хаус демонстрировал возможности подобных пространств, население которых относилось к разным этническим, религиозным и культурным группам, а изданная в 1909 году книга «Дух молодежи и улицы города» была одним из первых исследований, где приводились убедительные доказательства необходимости организации общественно-культурных пространств в мегаполисах [12].
В 1961 году была опубликована книга Дж. Джекобс «Жизнь и смерть больших американских городов», которая одной из первых ставила в центр рассмотрения вопрос о невозможности игнорирования повседневной жизни горожанина. Джекобс подчеркивала, что «ценности, видимые невооруженным глазом, – улицы и парки – тесно сопряжены с ключами и путеводными нитями к иным специфическим элементам больших городов» [4, с. 7].
Несмотря на активное использование понятия «общественное пространство», до сих пор не сложился единый подход к его трактовке. Безусловно, с одной стороны, это можно объяснить его относительной молодостью, с другой стороны, – смысловым многообразием самого явления. В связи с этим его рассмотрение не должно сужаться до градостроительного или архитектурного фокуса: как пространство реальное оно испытывает воздействие всех сфер человеческой деятельности, поэтому его анализ должен опираться на междисциплинарный подход.
Таким образом, парк как общественное пространство является социокультурным компонентом городской среды, который выступает как основа для формирования городской культуры и демонстрации ее наивысших образцов.
Локализации места в пространстве города посвящены работы Д. Харви [12] и Л. Лофланд [15]. Одним из первых этот переход связан с деятельностью Д. Харви, а Л. Лофланд разделила жизнь горожанина на три сферы – частная, «приходская» , которая подразумевает взаимодействие с соседями, и публичная , где происходит коммуникация с незнакомцами. Она подчеркивает, что в современном городе именно в общественном месте происходит размывание границ между указанными сферами. Однако Л. Лофланд отмечает и риски, которые возникают в ходе этого процесса. Она обозначает это термином
«кризис публичности». «Этот виртуальный и пространственный кризис идентичности непосредственно связан с размыванием раз-личии ̆ между телом, собои ̆ , городом и каждым из этих миров, их воображаемыми или симу-лятивными формами» [16, p. 141].
Одной из разновидностей общественного пространства выступает «третье место» (первые два – работа и дом) – термин, который был введен Р. Ольденбургом в конце 1980-х годов [7] и за короткий срок получил широкое распространение. С данной концепцией отечественное научное сообщество имело возможность познакомиться лишь в 2014 году, когда книга Ольденбурга «Третье место: кафе, кофейни, книжные магазины, бары, салоны красоты и другие места «тусовок» как фундамент сообщества» была переведена на русский язык. Всестороннего рассмотрения в связи с этим данная концепция у нас пока не получила, о чем свидетельствует ее отнесение, как правило, лишь к библиотекам.
Однако Ольденбург исследовал неформальную общественную жизнь американских городов и, подчеркивая ее значимость, отмечал, что долго не мог найти подходящего для нее наименования, эквивалента французскому «рандеву». Под «третьим место» он имел в виду, прежде всего, общественные места, помогающие сближению людей (кафе, библиотеки, парикмахерские и прочее). Ольденбург отмечает, что «это – неформальные общественные места для встреч. Эти места лучше всего служат сообществу в той степени, в которой они принимают всех и являются локальными. Первая и самая главная функция третьих мест – объединение района» [7, с. 20].
Популярность данного термина можно объяснить тем, что Ольденбург объединил между собой пространства, которые, несмотря на их долгую историю, никто до этого не выделял в особый тип, выявив общий для всех них критерий – содействие социальному объединению людей. Он пишет, что «когда достойные граждане сообщества находят места, чтобы проводить там друг с другом целые часы без конкретной или очевидной цели, то в этом общении есть своя цель» [7, с. 9], которая и заключается в формировании чувства принадлежности к сообществу. Давая ему характеристику, он отмечает, что «третье место – это своего рода “смеситель”» [7, с. 21]. Кроме того, он показал необходимость создания подобных мест, подчеркивая, что «среди благороднейших из функций третьего места, которая теперь редко где воспринимается серьезно, – совместный расслабленный и приятный отдых молодежи и взрослых. Грозная враждебность и недопонимание между поколениями, отчуждение взрослых от молодежи и боязнь молодежи, рост насилия среди подростков – у всех этих и других связанных с молодежью проблем есть общая причина» [7, с. 23]. Об этом же пишет и Дж. Аддамс, отмечая еще в начале ХХ века, что «никогда еще удовольствия молодых и зрелых не были так четко разделены, как в современном городе» [12, p. 13]. Л. Мамфорд подчеркивал, что «игра, спорт, ритуал и фантазия во сне не менее, чем организованная работа, оказали формирующее влияние на человеческую культуру и не меньшее – на технику» [6].
Таким образом, можно говорить о четко обозначившейся уже в начале ХХ века тенденции, результатом развития которой становится трансформация представлений о городском пространстве, о понимании значимости общественных или публичных пространств.
«Третье место» как бы подпитывает социальные связи и способствует их укреплению. Для комфортного пребывания человека в «третьем месте» там должны быть созданы особые условия, среди которых Ольденбург выделяет:
– доброжелательную атмосферу, благодаря которой происходит нивелирование социальных барьеров между людьми;
– доступность (как территориальную – близкое расположение или возможность быстро добраться, так и ценовая демократичность).
Всем указанным характеристикам соответствует ЦПКиО им. Горького. За последние десять лет парк пережил масштабную рекон- струкцию, благодаря чему на его территории в течение всего года проводятся разнообразные программы для разных групп посетителей. Здесь можно совершить прогулку: территория парка в этом отношении огромна, поскольку это не только партер вдоль Мо-сквы-реки, но и Нескучный сад, территория Музеона. А можно потратить время на развлечения: только детская площадка «Салют» занимает площадь 2 га. Кроме этого, ЦПКиО им. Горького занимается благоустройством расположенного на Воробьевых горах заказника и территорий, прилегающих к Дворцу пионеров.
Парком разработана обширная экскурсионная программа, включающая как обзорные экскурсии (пешие или на электробусе), так и тематические, рассказывающие об отдельном периоде из истории парка. На территории парка расположена обсерватория с двумя мощными телескопами, каждый из которых позволяет наблюдать за планетами нашей галактики.
Летом парк предлагает посетить кинотеатр под открытым небом, где демонстрируют не только классические, но и новые фильмы. Кроме того, в парке работает и музыкальный салон, где проводят музыкальные вечера и камерные концерты. Продолжая сохранять статус центрального, парк проводит масштабные фестивали, элементами которых выступают театрализованные представления и световые шоу. Так, 8–11 августа 2024 года был проведен фестиваль «Горький в Парке Горького», в программу которого входили и цирковое шоу «Горький Ленд», где сюжет строился на известных рассказах писателя и разыгрывался в виде перформансов, и спектакль-променад «Изергиль», во время которого зрители перемещались вместе с актерами по территории парка, и посвященный первому директору Бетти Николаевне Глан спектакль «Фабрика счастья», в котором использовались архивные материалы (кинохроника, фотографии).
Парк дает возможность приобщиться к природной среде, и это не только орнитологические экскурсии, знакомящие с насе- ляющими его птицами, но и Общественный огород, где каждый желающий может получить собственную грядку и почувствовать себя садоводом.
В парке можно круглый год заниматься спортом (и это не только удобные беговые дорожки, но и зимний каток), проводятся квесты, мастер-классы и лекции, которые проходят в павильоне «Школа» (для детей создана «Зеленая школа», где помимо занятий по садоводству, работают и творческие мастерские, например, по рисованию и кулинарии, лепке из глины).
То есть парк дает возможность провести здесь весь день, поэтому созданы условия для комфортного пребывания всех групп населения. Попадая в парк, родители имеют возможность оставить своих детей в работающих при Зеленой школе «Яслях» (для малышей) и «Свободном пребывании» (для детей 6–12 лет), где ими будут заниматься воспитатели. Для родителей с малышами открыты комнаты матери и ребенка, оборудованные всем необходимым. В дни школьных каникул свои двери открывает Кампус, где дети проводят время с 10 до 19 часов.
Те, кто имеет удаленный график работы, может занять место на Рабочей станции, где обустроено 200 мест (столы, кресла, переговорные комнаты, Wi-Fi, необходимая техника – ноутбуки и проекторы и пр., предоставляются услуги секретаря и бухгалтера). Кроме того, на его территории расположены кафе и закусочные, бургерные и кофейни, несколько ресторанов, каждый из которых представляет одну из известных кухонь мира (европейская, кавказская, азиатская и пр.).
Итак, ЦПКиО им. Максима Горького и сегодня выступает образцом для других российских парков этого типа. Более того, парк инициирует проведение научно-практических конференций, главной целью которых становится не только знакомство специалистов, работающих в этой области, с достижениями в паркостроении, но и выработкой предложений по пересмотру его концептуальных оснований.
Таким образом, для комфортного существования горожанин должен освоить пространство города, усвоить правила поведения в нем. Город должен для этого превратиться в коммуникативное пространство. Одной из его коммуникативных площадок выступают парки, где взаимодействие между субъектами устанавливается на основе схожести интересов (спортивных, образовательных, досуговых и пр.). Основой коммуникации в данном случае выступает тематизация, благодаря чему происходит корректировка поведения субъекта. В связи с этим парк можно определить как совокупность различных систем взаимодействия (информационная инфраструктура, событийные мероприятия и вовлеченность в них посетителей, реклама, диджитал-коммуникации, общение разнообразных сообществ). Участниками коммуникации выступают административно-властные структуры – представители бизнеса, общественность, у каждого из которых собственный интерес (например, интересы всех трех указанных групп соединяются в желании развивать туризм). Кроме того, современное парковое пространство не может выступать одновалентным, в нем не должно присутствовать излишней рационализации и единообразия. Это пространство не должно быть гомогенным, ибо в данном случае исключаются детерминирующие факторы (в частности, система освещения и зонирование по сферам интересов, ландшафтные особенности и пр.). Современное гетерогенное общество не может быть удовлетворено подобным решением, поскольку главное назначение паркового пространства есть соединение человека, у которого наличествуют собственные запросы, и места. Сегодня парк как объект культуры выступает ключевым элементом в развитии региона. Развитие, в данном случае, подразумевает, прежде всего, последовательное, постепенное изменение (количественное, качественное), предполагающее наличие и противоречивости, но не ведущей к кардинальной трансформации. В контекст развития следует включить и такой феномен, как переходность, результатом которой стало формирование инвариантного типа культуры. Исходя из сказанного, парк как общественное пространство является социокультурным компонентом городской среды, который выступает как основа для формирования городской культуры и демонстрации ее наивысших образцов. Из этого следует, что оно есть специально подготовленная для посещения территория, при этом цель посещения может быть различный, поскольку общественное пространство полифункционально. Оно играет политическую (как пространство для политического дискурса), социальную (как пространство взаимодействия людей между собой и с властью), рекреационную (как пространство для проведения досуга) и познавательную (как пространство, где сохраняются историко-культурные памятники) роли. Исходя из сказанного, общественное пространство может способствовать решению проблемы фрагментации городской среды, как пространства физического, так и социального (в частности, преодоление социальной изоляции горожан). Парк культуры и отдыха, безусловно, можно отнести к «третьему месту». Этот статус он сохранял как в советский период, так и в настоящее время. Однако отличительной чертой следует считать, что в 1970–1980-е годы парки становятся своего рода «местами свободы», где официальная культура проявляла себя, а, следовательно, и довлела в меньшей степени, нежели на рабочем месте. В частной жизни такую роль «свободного места» играла кухня (или квартиры, где проводились, так называемые «квартир-ники»), как место неформального общения, где протекала и культуротворческая деятельность (обсуждение выставок, фильмов и спектаклей, музыки). Необходимость же в развитии общественных мест связана с нивелированием границ между городскими жителями, что приведет к снижению социальной напряженности и формированию единого, комфортного для горожанина пространства.
Список литературы Парк культуры и отдыха как коммуникативное и общественное пространство: подходы к осмыслению
- Арендт X. Vita activa, или О деятельной жизни. Санкт-Петербург: Алетейя, 2000. 437 с.
- Вучик Вукан Р. Транспорт в городах, удобных для жизни. Москва: Территория будущего, 2011. 413 с.
- Гейл Я. Города для людей. Москва: Альпина Паблишер, 2012. 276 с.
- Джекобс Дж. Смерть и жизнь больших американских городов. Москва: Новое издательство, 2011. 460 с.
- Маккуайер С. Медийный город: медиа, архитектура и городское пространство. Москва: Стрелка, 2014. 389 с.
- Мамфорд Л. Техника и природа человека. [Электронный ресурс]. URL: https://gtmarket.ru/library/ar ticles/3130?ysclid=lwaks0swn3582877907
- Ольденбург Р. Третье место: кафе, кофейни, книжные магазины, бары, салоны красоты и другие места «тусовок» как фундамент сообщества. Москва: Новое литературное обозрение, 2014. 456 с.
- Парк Р. Городское сообщество как пространственная конфигурация и моральный порядок // Социологическое обозрение. 2006. Т. 5, № 1. С. 11-18.
- Сеннет Р. Падение публичного человека. Москва: Логос, 2002. 423 с.
- Синявина Н. В. Городское пространство // Вестник культурологии. 2021. № 3 (98). С. 94-105.
- Харви Д. Социальная справедливость и город. Москва: Новое литературное обозрение, 2018. [Электронный ресурс]. URL: https://www.litres.ru/devid-harvi/socialnaya-spravedlivost-i-gorod/
- Addams J. Spirit of youth and the city streets. New-York: "tte Macmillan Company, 1909. 162 p.
- Gottmann J. Megapolis. "Лю Urbanized Northeastern Seaboard of the United States. New-York: "Лю Twentieth Century Fund, 1961. 826 p.
- Cristaller W. Central Places in Southern Germany. Prentice-Hail, 1966. 230 p.
- Lofland Lyn H. The Public Realm. Exploring the City's Quintessential Social Territory. New-York: Aldin de Gruyter, 1988. 326 p.
- Soja Edward W. Postmetropolis: critical studies of cities and regions. Blackwell Publishing, 2000. 461 p.