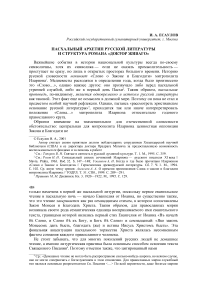Пасхальный архетип русской литературы и структура романа «Доктор Живаго»
Автор: Есаулов И.А.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: т.6, 2001 года.
Бесплатный доступ
Автор статьи обращает внимание на тот факт, что первой своеобразной составляющей русской литературы является Пасхальная проповедь митрополита Илариона, а наиболее любимое в народе Евангелие - Евангелие от Иоанна, начало которого всегда читается в церквях в первый день Пасхи. На основании этого автор статьи утверждает, что доминантой русской культуры и русской литературы является особый пасхальный архетип. Автор статьи показывает, каким именно образом Пасхальный архетип определяет структуру романа Б. Пастернака "Доктор Живаго", начинающегося с места погребения и заканчивающегося словами о воскресении и явлении пред лице Божие. Тема романа Пастернака, скрытая в его поэтике - паломничество к Христу, которое совершает, по замыслу автора, и каждый читатель романа.
Пасхальный и рождественский архетипы, литургия, структура романа
Короткий адрес: https://sciup.org/14749167
IDR: 14749167
Текст научной статьи Пасхальный архетип русской литературы и структура романа «Доктор Живаго»
Важнейшие события в истории национальной культуры всегда по-своему символичны, хотя их символика — если не сказать промыслительность — проступает не сразу, но лишь в открытых просторах большого времени. Историю русской словесности начинает «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона1. Медиевисты расходятся в определении года, когда было произнесено это «Слово…», однако важнее другое: оно прозвучало либо перед пасхальной утренней службой, либо же в первый день Пасхи2. Таким образом, пасхальная проповедь , по-видимому, является одновременно и истоком русской литературы как таковой. Этот факт еще не осмыслен в должной мере. Поэтому он пока не стал и предметом особой научной рефлексии. Однако, пытаясь «рассмотреть христианское основание русской литературы»3, приходится так или иначе интерпретировать положение «Слова…» митрополита Илариона относительно годового православного круга.
Обратим внимание на знаменательное для отечественной словесности обстоятельство: центральная для митрополита Илариона ценностная оппозиция Закона и Благодати не __________
Автор считает своим приятным долгом поблагодарить сотрудников Хиландарской научной библиотеки (США) и ее директора доктора Предрага Матеича за предоставленную возможность воспользоваться ее фондами и за помощь в работе
-
1 См.: Топоров В . Н . Святые и святость в русской духовной культуре. Т. 1. М., 1995. С. 359.
-
2 См.: Розов Н . Н . Синодальный список сочинений Илариона — русского писателя XI века // Slavia. Praha, 1963. Roč. 32. S. 147—148; Ужанков А . Н . Когда и где было прочитано Иларионом «Слово о Законе и Благодати» // Герменевтика древнерусской литературы. Сб. 7. Ч. 1. М., 1994. С. 102. Ср. иную точку зрения: Алексеев А . А . О времени произнесения Слова о законе и благодати митрополита Илариона // ТОДРЛ. Т. 51. СПб., 1999. С. 289—291.
-
3 Пришвин М . М . Дневники. Кн. 3. 1920—1922. М., 1995. С. 129.
только намечена в первой же пасхальной литургии, поскольку первое евангельское чтение в пасхальную ночь — начало Евангелия от Иоанна, но существенно также что это чтение завершается как раз семнадцатым стихом, в котором сопоставлены Закон Моисея и Благодать Христа. Таким образом, для православных мирян возникала своего рода семантическая единица воспринимаемого ими евангельского текста, границами которой являлись первый стих Евангелия от Иоанна «Въ начал ѣ б ѣ Cлово, и Слово б ѣ къ Богу, и Богъ б ѣ Слово» и семнадцатый: «Яко законъ Моисеомъ данъ бысть, благодать (же) и истина Иисусъ Христомъ бысть». Эта финальная акцентуация пасхального торжества Христа являлась несомненным фактом сознания каждого православного человека.
Не стоит забывать, что для многих поколений русских людей не домашнее чтение, а именно литургическая практика была основным способом освоения текста Священного Писания4. Поэтому отметим также, что цитированный нами не заказывали и не приобретали библейских книг для домашнего чтения. В допечатную эпоху основным путем знакомства со Св. Писанием было слушание за богослужением в церкви. Термин «Писание», навязывая представление о чтении и читателе, в действительности соотносится в рукописную эпоху (очевидно, не только в рукописную. — И. Е.) с рецитацией и слушателем» (Алексеев А. А. Текстология славянской Библии. СПб., 1999. С. 25—26). См. также: Громыко М. М. Православие у русских: проблемы этнологического анализа // Православие и русская народная культура. Кн. 6. М., 1996. С. 160—185. Заметим здесь же, что знаменитый романный эпизод в «Докторе Живаго» с разными вариантами молитвы, восходящей к девяностому псалму, весьма показателен. Ведь изменения и отклонения, «которые вносит народ в молитвы, постепенно удаляющиеся от подлинника» (текст цитируется по изданию: Пастернак Б. Л. Собрание сочинений: В 5 т. Т. 3. М., 1990), только и возможны, если этот псалом не копировать с церковнославянского текста Псалтыри, а переписывать «со слуха», припоминая звучание этого псалма на богослужении. Однако, с другой стороны, как раз в простонародной версии словно бы восстанавливается древняя традиция переписывания сакрального текста («Отрывки церковнославянского текста были переписаны в грамотке по-русски»). Тогда как в «канонической» версии («во всей своей славянской подлинности») этот текст имеется уже «в печатном виде». Б. М. Гаспаров совершенно прав, так комментируя этот эпизод: «…все искажения ведут к возвращению первоначального смысла, в глубинном его понимании» (Гаспаров Б. М. Литературные лейтмотивы: Очерки по русской литературе ХХ века. М. 1993. С. 268). Заметим только, что символика братоубийственной (самоубийственной) войны выражается не только в обращении противоборствующих сторон к одной и той же молитве. В этих условиях надежда на чудодейственность молитвы — это именно искушение. В стихотворении «Дурные дни» говорится об искушении Христа сатаной в пустыне. Романное целое позволяет переосмыслить и надежду русских героев-антагонистов на молитву, восходящую к девяностому псалму, в братоубийственном сражении: ведь сатана как раз предлагает Христу броситься вниз с храма, цитируя при этом все тот же девяностый псалом! (см. Мф. 4:6; Лк. 4:10—11). Таким образом в художественном целом романа христианский «первоначальный смысл» этого девяностого псалма осложняется мотивом самоубийственного искушения, который и реализуется в пастернаковском тексте: молитва-заклинание отнюдь не спасает одного героя от гибели, а другого от тяжелого ранения.
семнадцатый стих выделен еще и самим порядком богослужения: «на посл ѣ днемъ же возглас ѣ ударяютъ во вс ѣ кампаны (колокола. — И. Е .) и въ великое било»5. Апракосные Евангелия и Апостол, то есть назначенные для богослужебного употребления, разделены на особые отделы ( зачала ). Это деление не совпадает с делениями на главы. Евангелие от Иоанна состоит из 67 зачал. Каждое зачало представляет собой нечто цельное и законченное. Рассмотренная нами выше семантическая единица и является именно таким зачалом, задающим особый горизонт ожидания православным христианам — на целый церковный год поскольку подвижный календарный годовой цикл (синаксарий) начинается днем Пасхи.
К сожалению, в исследованиях, посвященных русской словесности, обычно недооценивается существенное для отечественной культуры обстоятельство: Евангелие от Иоанна в славянской православной традиции является не «четвертым», а «первым». Евангелие от Иоанна не только открывает Евангелие-апракос, чрезвычайно распространенное в России (так, знаменитое Остромирово Евангелие является, как известно, именно кратким апракосом), но и, по-видимому сам перевод Евангелия на славянский язык, судя по Пространному житию св. Кирилла, славянский просветитель начал именно с Евангелия от Иоанна.
Нам уже доводилось писать о своеобразном христоцентризме, присущем не только древнерусской словесности, но и русской литературе Нового времени6. Этот христоцентризм порождает своего рода парадокс, когда в одном и том же тексте могут сочетаться евангельский максимализм __________ является Иисус Христос) и в то же время сближение дистанции между грешниками и праведниками (поскольку те и другие несовершенны, недостойны Христа, а в то же время в равной мере достойны жалости, любви и участия — вплоть до того, что в православной традиции юродивые могут становиться святыми).
Однако христоцентризм является также важнейшим атрибутом христианской культуры как таковой. Годовой литургический цикл ориентирован как раз на события жизни Христа. Важнейшими из них являются Его Рождение и Воскресение. Соответственно, важнейшими событиями литургического цикла являются празднование Рождества и Пасхи. Если в западной традиции можно усмотреть акцент на Рождество (и соответственно говорить о рождественском архетипе), то в традиции Восточной Церкви празднование Воскресения остается главным праздником не только в конфессиональном7, но и в общекультурном плане8, что позволяет __________ и последующее Воскресение Христа, а сам его приход в мир, рождение Христа дающее надежду на переустройство здешнего земного мира. Не случайно например, А. Блок в романе Пастернака толкуется как «явление» именно Рождества.
Русский футуризм несколько брутальным образом, но продолжает эту же «рождественскую» линию символизма. В эстетике соцреализма также можно усмотреть какое-то профанированное, но все-таки узнаваемое замещение __________
-
9 Ср.: Захаров В. Н . Символика христианского календаря в произведениях Достоевского // Новые аспекты в изучении Достоевского. Петрозаводск, 1994. С. 37—49. Заметим, что любимое Евангелие Достоевского — Евангелие от Иоанна — читается именно на пасхальной неделе, а также на последующих — вплоть до Пятидесятницы, однако в нем, как известно, не говорится о Рождестве.
-
10 Подробнее см.: Есаулов И . А . Проблема визуальной доминанты русской словесности // Евангельский текст в русской литературе XVIII—XX веков. Вып. 2. Петрозаводск, 1998. С. 50—53.
пасхального архетипа советским вариантом архетипа рождественского. В частности центральный персонаж советской литературы — В. И. Ленин — тем и отличается от своего евангельского антагониста, что он не нуждается в воскресении , ибо — в субстанциальном смысле — никогда не умирал: Ленин, как известно, «всегда живой», «живее всех живых» и т. п. Поэтому важнейшим событием является не «воскресение» (которое для вождя избыточно), а сам факт его рождения , имеющий отчетливо манифестируемое сакральное значение и глубинно связанный с рождением нового мира (который также не собирается «умирать», будучи лишен всякой эсхатологической перспективы).
В каком отношении находится роман Пастернака к этим разнонаправленным культурным традициям? В структуре текста можно усмотреть возврат к иной, более ранней модели христоцентризма, нежели той, которую пытался реализовать символизм, — к пасхальной модели.
«Доктор Живаго» начинается не со сцены смерти и не с изображения смерти, что очень важно. Изображается сцена похорон; причем надо иметь в виду, что «Вечную память» по чину православного погребения поют перед выносом тела из храма, а также на пути от церкви к кладбищу. Таким образом, изначально задается особая вневременная перспектива, поскольку «Вечную память» поют не только людские голоса, но и «продолжают петь ноги, лошади, дуновения ветра». Тем самым, в чине погребения участвует как бы весь мир11. Начало романа можно соотнести с молитвой св. Иоанна Златоуста «Господи, даждь ми слезы, и память смертную, и умиление». __________ иерархически более важное. Нельзя не подчеркнуть, что этим самым и мотив памяти — один из важнейших в романе, «заявленный с первой страницы названием псалма, исполняемого во время церковного отпевания»12, — задает именно христианский горизонт ожидания читателю текста.
Во втором абзаце пасхальность проявляется в пожелании умершей Небесного Царствия , при котором внимание вновь переносится к иной сфере — небесного посмертного существования человека. В этом же абзаце первый раз появляется именование Живаго. Существенно, что это именование изначально возникает не в позднейшем контексте «саморазличнейших вещей, носивших имя Живаго» — мануфактуры, банка, дома, булавки, сладкого пирога круглой формы, — но именно в контексте похорон и посмертного небесного царствия. Тем самым, изначально актуализируется семантика фамилии: форма родительного падежа церковнославянского прилагательного «живый». «Что ищете Живаго съ мертвыми» (Лк. 24:5) — обращаются ангелы к женщинам, пришедшим ко гробу Христа. Таким образом, графическое совпадение фамилии доктора с одним из имен Христа13 связано также с пасхальным лейтмотивом.
Подчеркнем и чрезвычайно существенный для поэтики романа литургический аспект этого именования. Молитва св. Иоанна Златоуста14 звучит на литургии верных __________
Каждый раз, как этот нервный человек успокаивался, за ним из первого класса приходил его юрист и сосед по купе и тащил его в вагон-ресторан пить шампанское <…> Нельзя было отделаться от ощущения, что постоянное возбуждение его клиента в каком-то отношении было ему на руку.
Однако и это ситуативное усложнение отношений адвоката и его клиента не является глубинной причиной самоубийства. Как известно, композиционно данному эпизоду непосредственно предшествует молитва Юрия Живаго ангелу-хранителю о своей «новопричтенной угоднице» матери, но не о «шелапуте-отце»:
Вдруг он вспомнил, что не помолился о своем без вести пропавшем отце, как учила его Мария Николаевна. Но ему было так хорошо <…> что он не хотел расставаться с этим чувством легкости <…> И он подумал, что ничего страшного не будет, если он помолится об отце как-нибудь в другой раз. «Подождет. Потерпит», — как бы подумал он.
Однако именно в это время («пять с минутами») бросается «на всем ходу со скорого вниз головой на насыпь» его мучающийся отец, словно бы умоляющий о милости, но не получающий молитвенной помощи сына. Столь детализированная временная координата возникает в романе в другой главе, резко контрастируя с ее общим религиозно-философским содержанием, поэтому точность указания совершенно немотивированную сюжетно, можно интерпретировать мистической связью между несостоявшейся молитвой об отце и его самоубийством.
Слово из молитвы мальчика «Мамочка была такая хорошая <…> помилуй ее Господи…» и слово отца «Вы располагаете какими-то более милостивыми узаконениями» сближаются (как и пространственно авторской волей, хотя и невольно для себя самих, сближаются отец и сын, причем это сближение сопровождается голосом покойной матери героя: «…ему то и дело мерещилось будто мать аукается с ним и куда-то его подзывает»), чтобы в итоге так и не соединиться. Божия милость и упование на обнадеживающие гордоновские «узаконения», хотя и «более милостивые», нежели те, которые, по-видимому предоставлял Комаровский, оказываются в разных, причем принципиально непересекающихся эонах15.
Словам «Подождет. Потерпит» соответствует отчаянное движение отца: «За минуту до конца он вбежал <…> в купе, схватил Григория Осиповича за руку, хотел что-то сказать, но не мог…» Можно предположить, что если Григорий Осипович «пустившись за этим сумасшедшим вдогонку», так и не смог физически удержать отца Юрия Живаго, то слово молитвы об отце могло бы это сделать, будучи подлинным «удерживающим», но оно не прозвучало.
Православный пасхальный цикл часто является определяющим для временной организации текста. Так, самое первое упоминание о времени в романе отсылает к православному празднику Покрова Пресвятой Богородицы: «Был канун Покрова». Иногда даются две временных координаты: природная и христианская. Например: «Была зима в исходе. Страстная, конец Великого Поста»; «в час седьмый по церковному, а по общему часоисчислению в час ночи»; «Был третий день не по времени поздней Пасхи и не по времени __________
Успения». Тем самым христианский хронотоп романа существенно участвует в воссоздании православной картины мира, преодолевая одномерность линейного времени.
Об этом же преодолении времени как «преодолении смерти» на другом научном языке интересно пишет Б. М. Гаспаров, особо выделяя «временной контрапункт» как формообразующий принцип пастернаковского романа16. Однако стремление исследователя ограничиться в своей интерпретации только контекстом XIX— XX веков, то есть авторской «современностью», хотя и достаточно широко понятой, приводит к типичному «замыканию в эпохе» (М. М. Бахтин). В итоге идея преодоления смерти, как полагает Б. М. Гаспаров, «естественным образом» ассоциируется с философской системой Н. Ф. Федорова17, а сам роман Пастернака при таком подходе представляет собой «художественный эквивалент мистически-философского «общего дела»18. Однако уже особая насыщенность текста «Доктора Живаго» богослужебными аллюзиями позволяет рассматривать произведение и в «большом времени» православной культуры. При таком исследовательском подходе пасхальный архетип этой культуры и проявляет себя романной идеей преодоления смерти, а «общее дело», будучи буквальным переводом на русский язык древнегреческого «литургия », уже самим этим фактом актуализирует многовековую христианскую традицию, как именование Живаго подчеркивает ее славянский православный вариант и евхаристический смысл. Заметим здесь же, что сама философская система Н. Ф. Федорова, к которой часто возводят творчество как крупнейших русских писателей ХХ века, так и целых художественных направлений с его идеей общего дела воскрешения отцов является одной из самобытных философских вариаций православного соборного инварианта и пасхального архетипа.
Рождественский архетип также проявляет себя в пастернаковском тексте, однако чрезвычайно характерным образом. В структуре романа имеется целый рождественский __________ назад».
Можно, конечно, возразить, что именно в третьей части возникают отдельные строки стихов Юрия Живаго: «Свеча горела на столе…» Однако, мы полагаем, не случайно надежды героя на естественное завершение стихотворения не сбываются именно в рождественском романном контексте. Юрий Живаго надеется, что «продолжение придет само собой, без принуждения», но «оно не приходило». Таким образом, вневременной план бытия, связанный со стихами — даже и рождественской тематики, — не может завершиться в пределах рождественской части пасхального романа19 и завершается — на иных основаниях — уже в других частях.
__________
-
19 Тем самым не подтверждается точка зрения Ж. Нива о главенстве русского Рождества в поэтической концепции Пастернака (см.: Nivat G . Les matins de Pasternak // Борис Пастернак. 1890— 1960. Paris, 1979. P. 369—371).
Не случайно и третья часть заканчивается размышлениями героя не о явлении Рождества, а о смерти и искусстве, которое — размышляя о смерти — «неотступно творит этим жизнь», иными словами, призвано преодолевать смерть .
Заметим, что рассуждения Юрия Живаго о творческой правде революции и социализма (в которых можно усмотреть оттенок рождественской установки на преобразование земного мира) также завершаются неудачей героя (неудачным объяснением с Ларой, которая вскоре уезжает). Точно так же речь Юрия Живаго о революции как долгожданном наводнении и России как царстве социализма сопровождается грозой и определяется как пустословие 20: «А ведь видно гроза была пока мы пустословили, — сказал кто-то».
После других разговоров — о земном переустройстве жизни и великолепной хирургии , которая вырезает язвы прошлого, — не случайно следует болезнь Живаго, во время которой совершается окончательная ориентация романа на __________
Новый Живаго может уже заявить Ливерию: «…когда я слышу о переделке жизни, я теряю власть над собой»; «материалом, веществом жизнь никогда не бывает». Важно заметить, что в земном, прагматическом плане Живаго ошибается и Ливерий прав: «…наши неудачи временного свойства. Гибель Колчака неотвратима. Попомните мои слова». Однако правота Живаго относится здесь не к функциональному аспекту, а к субстанциальному. Исследователями уже отмечалось специфическое юродство героя. Но юродство характерно именно и только для пасхальной православной культуры, поскольку особым образом не считается с правилами земного миропорядка, переводя его в иной план21.
Стихотворения Юрия Живаго и являются переводом прозаического плана в пасхальное христианское измерение, как посмертное существование продолжает и завершает земную жизнь. В этом контексте понимания можно интерпретировать и продолжающуюся нумерацию22 частей романа. Стихотворения представляют собой одновременно и сублимацию жизни Юрия Живаго и духовное продолжение этой жизни.
В первом же стихотворении цикла речь идет не о Рождестве, а о пасхальной добровольной жертвенности. В тексте можно усмотреть отсылки к богослужению Страстной недели. В Великий понедельник бесплодная смоковница толкуется как «сонмище иудейское»23, что составляет параллель к строке «Я один, всё тонет в фарисействе», но еще до этого на утрени той же службы поется тропарь «Се Женихъ грядетъ въ полунощи…»24, который можно сопоставить с первой строкой стихотворения «Гамлет». Ведь дверной косяк, к которому __________ который никогда не читается на православном богослужении. Однако в данном случае мы только лишь текстуально конкретизировали
-
25 Там же.
-
26 Можно отметить и фонетический параллелизм, соседствующий с обозначенной нами интонационной паузой: «блиЗ еСТь / ПРИ ДВЕРехъ» и «Затих <…> подмоСТки / ПРИслонясь к ДВЕРному…»
-
27 Ср.: Евангелие от Марка: «в ѣ дите, яко близ есть, при дверехъ» (Мк. 13:29); Соборное Послание св. апостола Иакова: «яко пришествïе Господне приближися… се, Судïя пред дверьми стоитъ» (Иак. 5:8, 9); Откровение Иоанна Богослова: «Се, стою при дверехъ и толку (стучу. — И . Е .): аще кто услышитъ гласъ мой и отверзетъ двери, вниду къ нему…» (Откр. 3:20).
-
28 Б. М. Гаспаров проницательно определяет значение стука «как мистического сигнала и связь его с темой смерти» ( Гаспаров Б. М . Указ. соч. С. 255). См. также: Будин П.-А . Стук у Пастернака // Постсимволизм как явление культуры. <Вып. 1>. М., 1995. С. 43—48.
497 инвариант «яко близ есть, при дверехъ», то есть посмертное явление Христа, со всей определенностью заявленное последовательностью богослужения. В Великий четверг звучит: «Отче Мой, аще не возможетъ чаша сïя прейти отъ Мене, аще ю не пïю: да будетъ воля Твоя. И паки: Отче, аще можно, да мимо идетъ отъ Мене чаша сïя»29, что соответствует известным строкам того же стихотворения «Гамлет».
«Рождественская звезда», являясь восемнадцатым по порядку текстом, входит в тот же пасхальный цикл, подготавливая конец пути , заявленный в стихотворении «Гамлет». Не случайно «звезда Рождества» определяется как гостья . Завершается романное паломничество к Пасхе строками о добровольных муках (добровольной жертве), гробе, Воскресении и Божьем суде.
В последних трех стихотворных строках романа можно угадать и своего рода апокалиптическое завершение пасхального цикла, поскольку «суд» Христа, в пределах финальной строфы соседствующий с Его Воскресением, напоминает «эсхатологический день», которым иногда называют Пятидесятницу. «Столетья» именно затем «поплывут из темноты », чтобы быть освященными единым Святым Духом: в кондаке на Пятидесятницу поется о действии Божием, противоположном вавилонскому разделению30. Сама литургия в день Пятидесятницы напоминает о Крещении; в частности, вместо «Трисвятого» поется крещальное песнопение из Послания к Галатам. В этом литургическом контексте понимания проясняется смысл движения прошлых столетий, которые, «как баржи каравана, <…> поплывут ». Нельзя исключать и того, что строки предыдущей строфы «ход веков подобен притче / И может загореться…» также неявно сопоставлены с Пятидесятницей как посредством огня , так и обращением Господа к Петру, одному из апостолов («Ты видишь…»): огненные языки над апостолами и являются символом сошествия Святого Духа на пятидесятый день после Пасхи.
Таким образом, структура романа являет собой художественно организованное паломничество к Пасхе, к новой жизни31. Начавшись со сцены похорон, роман завершается __________ перспективе. «Царствие небесное» объемлет равно и «его» и «ее» — каждого из Живаго.
Вместе с тем, структура романа, в целом воспроизводя годовой цикл богослужения, осложняется также дневным кругом и седмичным кругом, отсюда такое значительное место в поэтическом мире занимает целый ряд художественных заместителей смерти (болезнь, беспамятство, смертельная усталость, тиф галлюцинации, расставания, странничество) и последующие выздоровления-воскресения. Поэтому каждое сюжетное событие пасхального романа Пастернака не только может быть рассмотрено в контексте годового православного круга, но и одновременно в двух других богослужебных временных циклах, по-разному освещающих то или иное романное событие, но выполняющих одну и ту же телеологическую задачу: одоление смерти «усильем Воскресенья».
Отсюда понятна функция многочисленных сюжетных повторов и утроений. Линейный ход событий романа неявно соотносится с литургическими кругами подобно тому как «ход веков подобен притче». Пастернак оттого «не стремится психологически оправдывать поступки героев или соблюдать причинноследственную зависимость между событиями»32, что эти поступки и события в конечном итоге причастны иному эону. Однако этот прорыв в новый эон означает особую эсхатологию пасхальности, иными словами, не отвержение «профанного» земного времени с его житейскими хаотическими обстоятельствами и событиями не исступление из них, а состоявшееся благодаря Христову Воскресению преодоление времени, когда возможно, «живя в “мире сем”, быть причастниками или участниками “эона будущего”, полноты, радости и мира в Духе Святом»33. __________
-
32 Бёртнес Ю . Указ. соч. С. 363.
-
33 Александр Шмеман , протоиерей. Введение в литургическое богословие. Paris, 1961. С. 85—86. Так, второе стихотворение цикла «Март» словно бы совершенно произвольно помещено Пастернаком между двумя текстами, эксплицирующими пасхальный хронотоп. Однако его название уже отсылает к церковному календарю (Великий Пост/Пасха). Весна, сравниваемая с «дюжей скотницей», отнюдь не дискредитируется столь обыденным стиховым соседством (Ср.: Есаулов И . А . Преподобный Серафим Саровский в беседе с Н. А. Мотовиловым и проблема границ между земным и небесным в русской культуре // Материалы второй и третьей научно-практических конференций по проблемам истории культуры и воспитания. Вып. 2. Саров, 1999. С. 24—30). «Навоз» в этом поэтическом мире Пастернака не просто «всего живитель и виновник»; им «дымится жизнь», поэтому в стихотворении он и может пахнуть «свежим воздухом». Бушующий же овраг первой строфы этого текста предвосхищает те берега, которые в стихотворении «На Страстной» уже «буравит» вода. «Настежь все» второго стихотворения корреспондирует с открытым ковчегом третьего. Параллели подтверждающие прозрачность границ между земным и небесным, легко можно было бы продолжить. Как показывает Ж. де Пруайар, у Пастернака «лицо природы правдиво», что «превращает природу, по крайней мере ее небесные дали и деревья — ели и березы, в настоящую “праведницу ликом”, чье лицо — икона»; «в пастернаковской вселенной <…> весь сотворенный мир играет роль живой иконы» ( Пруайар Ж., де . «Лицо» и «личность» в творчестве Бориса Пастернака // Пастернаковские чтения. Вып. 2. М., 1998. С. 51).
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что художественное освоение русской литературой реальной сложности и глубины православного образа мира в настоящее время пока еще находится на самой предварительной стадии своего научного осмысления, однако оно вряд ли может быть адекватно описано с позиций, внеположных фундаментальным ценностям этого мира34. __________ заранее довольствуясь «неутешительно ограниченным результатом». Так, полагая, что «Доктор Живаго» находится в «традиции большого христианского повествования», исследователь вместе с тем убежден, что эту традицию «основал Достоевский в “Братьях Карамазовых”» (Там же. С. 154). Однако совершенно ясно, что если и можно говорить о некоем «начале» той традиции, которой наследует текст Пастернака, то, как мы и старались показать, ее следует относить к гораздо более раннему времени. Впрочем, похоже, что и в «Братьях Карамазовых» при «хаккерской» установке вполне можно обнаружить как «принципиальную неразъединяемость ложных и истиных высказываний, на которой (как будто бы. — И. Е.) настаивает Достоевский» (Там же. С. 160), так и чрезвычайную важность для Зосимы философии Фихте, поскольку, по убеждению И. П. Смирнова «Достоевский заимствовал у Фихте главное положение “Братьев Карамазовых”» (Там же. С. 181).
Список литературы Пасхальный архетип русской литературы и структура романа «Доктор Живаго»
- Топоров В. Н. Святые и святость в русской духовной культуре. Т. 1. М., 1995. С. 359.
- Розов Н. Н. Синодальный список сочинений Илариона -русского писателя XI века//Slavia. Praha, 1963. Roč. 32. S. 147-148
- Ужанков А. Н. Когда и где было прочитано Иларионом «Слово о Законе и Благодати»//Герменевтика древнерусской литературы. Сб. 7. Ч. 1. М., 1994. С. 102.
- Алексеев А. А. О времени произнесения Слова о законе и благодати митрополита Илариона//ТОДРЛ. Т. 51. СПб., 1999. С. 289-291.
- Пришвин М. М. Дневники. Кн. 3. 1920-1922. М., 1995. С. 129.
- Алексеев А. А. Текстология славянской Библии. СПб., 1999. С. 25-26
- Громыко М. М. Православие у русских: проблемы этнологического анализа//Православие и русская народная культура. Кн. 6. М., 1996. С. 160-185.
- Пастернак Б. Л. Собрание сочинений: В 5 т. Т. 3. М., 1990
- Гаспаров Б. М. Литературные лейтмотивы: Очерки по русской литературе ХХ века. М., 1993. С. 268
- Мф. 4:6
- Лк. 4:10-11
- Триодь цветная. М., 1999. С. 13.
- Есаулов И. А. Категория соборности в русской литературе. Петрозаводск, 1995.
- Булгаков С. Н. Православие: Очерки учения Православной Церкви. М., 1991. С. 285
- Розанов В. В. Среди художников. М., 1994. С. 25-27
- Иванов Вяч. Родное и вселенское. М., 1994. С. 369-371
- Захаров В. Н. Символика христианского календаря в произведениях Достоевского//Новые аспекты в изучении Достоевского. Петрозаводск, 1994. С. 37-49.
- Есаулов И. А. Проблема визуальной доминанты русской словесности//Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков. Вып. 2. Петрозаводск, 1998. С. 50-53.
- Федоров Н. Ф. Православный погребальный обряд и его смысл//Федоров Н. Ф. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. М., 1995. С. 64-65
- Бёртнес Ю. Христианская тема в романе Пастернака «Доктор Живаго»//Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков. . Петрозаводск, 1994. С. 362.
- Levingstone A. Allegory and Christianity in «Doktor Zhivago»//Melbourne Slavonic Studies. Vol. 1. 1967. P. 24-33
- Борисов В. М. Имя в романе Бориса Пастернака «Доктор Живаго»//«Быть знаменитым некрасиво…»: Пастернаковские чтения. Вып. 1. М., 1992. С. 104-106.
- Служебник. М., 1996. С. 151-152
- Esaulov I. The Categories of Law and Grace in Dostoevsky's Poetics//Dostoevsky. Religion and the Novel New Readings. Cambridge, 2001
- Nivat G. Les matins de Pasternak//Борис Пастернак. 1890-1960. Paris, 1979. P. 369-371
- Тахо-Годи Е. А. «И образ мира, в слове явленный…» («слово» в романе Пастернака «Доктор Живаго»)//Логос. 1999. № 3. Лосевские чтения. Образ мира -структура и целое. С. 103, 105
- Переписка Бориса Пастернака. М., 1990. С. 224
- Fleishman L., Harder H.-B., Dorzweiler S. Boris Pasternaks Lehrjahre: Неопубликованные философские конспекты и заметки Бориса Пастернака. Т. 1. Stanford, 1996. P. 85-119 (Stanford Slavic Studies. Vol. 11:1
- Есаулов И. А. Юродство и шутовство в русской литературе: некоторые наблюдения//Литературное обозрение. 1998. № 3. С. 108-112.
- Obolensky D. The Poems of Doktor Zhivago//The Slavonic and East European Review. 1961. Vol. XL. № 94. Р. 123-135.
- Триодь постная. Ч. 2. М., 1992. С. 397.
- Мк. 13:29
- Иак. 5:8, 9
- Откр. 3:20
- Будин П.-А. Стук у Пастернака//Постсимволизм как явление культуры. . М., 1995. С. 43-48.
- Александр Шмеман, протоиерей. Введение в литургическое богословие. Paris, 1961. С. 85-86.
- Есаулов И. А. Преподобный Серафим Саровский в беседе с Н. А. Мотовиловым и проблема границ между земным и небесным в русской культуре//Материалы второй и третьей научно-практических конференций по проблемам истории, культуры и воспитания. Вып. 2. Саров, 1999. С. 24-30
- Пруайар Ж., де. «Лицо» и «личность» в творчестве Бориса Пастернака//Пастернаковские чтения. Вып. 2. М., 1998. С. 51
- Смирнов И. П. Роман тайн «Доктор Живаго». М., 1996. С. 8