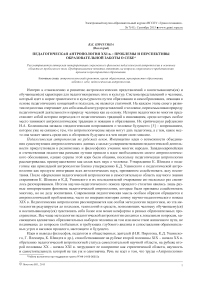Педагогическая антропология XXI в. : проблемы и перспективы образовательной заботы о себе
Автор: Пичугина Виктория Константиновна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Пленарное заседание
Статья в выпуске: 7 (41), 2015 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются авторская интерпретация современного феномена педагогической антропологии и основные области ее проблемного поля. Предпринимается попытка ответить на вопросы современного представления времени и пространства образования.
Антропологический хронотоп, время образования, пространство образования, забота о себе, педагогическая антропология
Короткий адрес: https://sciup.org/14822335
IDR: 14822335
Текст научной статьи Педагогическая антропология XXI в. : проблемы и перспективы образовательной заботы о себе
Интерес к становлению и развитию антропологических представлений о воспитывающем(ся) и обучающем(ся) характерен для педагогики разных эпох и культур. Система представлений о человеке, который идет к норме грамотности и культурности путем образования и самообразования, лежащая в основе педагогических концепций и подходов, не является статичной. На каждом этапе своего развития педагогика очерчивает для себя новый контур представлений о человеке, переосмысливая природу педагогической деятельности и природу человека как ее основу. История педагогики во многом представляет собой историю переходов от педагогических традиций к инновациям, среди которых особое место занимают антропологические традиции и новации в образовании. Их критическую рефлексию И.А. Колесникова назвала «педагогическим вопрошанием о человеке будущего» [5] – вопрошанием, которое уже не связано с тем, что антропологические науки могут дать педагогике, а с тем, какое место она может занять среди них в обозримом будущем и в чем видит свою миссию.
Педагогическая антропология на рубежах веков. Имплицитно идеи о возможности объединения существующих антропологических данных с целью усовершенствования педагогической деятельности присутствовали в религиозных и философских учениях многих народов. Западноевропейская и отечественная педагогика разными путями пришли к идее необходимости своего антропологического обоснования, однако скрепы этой идеи были общими, поскольку педагогическая антропология рассматривалась преимущественно как сплав всех наук о человеке. Утверждение К. Шмидта о педагогике как прикладной антропологии близко утверждению К.Д. Ушинского о педагогической антропологии как продукте интеграции всех антологических наук, призванном содействовать делу воспитания. После оформления педагогической антропологии в самостоятельную область научного знания стараниями К. Шмидта и К.Д. Ушинского и их последователей очарование ею несколько раз сменялось разочарованием. Итогом научно-педагогического поиска прошлого столетия явились лишь разные интерпретации феномена педагогической антропологии, которые были призваны содействовать многому, но не делу воспитания. Современная педагогическая мысль особым образом обращается к антропологической проблематике, часто по инерции повторяя логику научно-педагогического поиска XIX в. Педагогическая антропология рассматривается как особая методология педагогики, но эта методология редуцируется до подходов, технологий и средств, позволяющих человеку обучающему(ся) и воспитывающему(ся) чувствовать себя более или менее комфортно в разных образовательных пространствах. Все чаще методология педагогической антропологии сводится к локальным вопросам, касающимся адекватных образовательных выборов человека на том или ином этапе жизненного пути, не поднимаясь до вопросов глобальных и требующих глубокого анализа и сопоставления образовательных угроз и вызовов прошлого, настоящего и будущего.
Идеи и выводы философов, педагогов и общественных деятелей (Н.И. Пирогова, К.Д. Ушинского, Г. Плеснера, К. Шмидта и др.), способствовавшие на рубеже второй половины XIX – начала ХХ в. обретению педагогической антропологией статуса самостоятельной научной области, на рубеже второй половины XX – начала ХХI в. затрудняют ее восприятие как стратегической области, научность и самостоятель ность которой не так уж и однозначна. Речь не идет о том, что труды «Антропология»
К. Шмидта или «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии» К.Д. Ушинского устаревают, а о том, что без современного прочтения, поставленная в них «грандиозная научно-педагогическая задача» окажется «не по плечу» [2] уже не только педагогике двадцатого века, но и двадцать первого. У педагогики ХХI в. будет свой, особый «опыт педагогической антропологии», только если педагоги сумеют ответить на вопрос, какие задачи она призвана решать в современных реалиях.
Антропологический хронотоп современной педагогики: забота о себе через образование. Можно много дискутировать по вопросу о том, что лежит в основе исторической динамики антрополого-педагогических представлений той или иной эпохи. Несмотря на различия в частном, единство в общем все же существует: эта динамика во многом обусловлена антропологическим хронотопом педагогики, который существенно отличается для разных эпох. Пространство и время образования конкретноисторического человека и их педагогическое восприятие составляют основу проблемного поля педагогической антропологии. В современных реалиях поиск ответов на вопросы о том, что такое время образования и пространство образования человека, является не простой задачей. Было бы не точно утверждать, что антропологические топос и хронос педагогики вышли за пределы школьного класса или вузовской аудитории, поскольку никогда и не были в этих пределах. Физически сидящий в классе ученик и во времена К.Д. Ушинского и сейчас не есть ученик, присутствующий в нем душой, не отлетающий в свое пространство и время (и не так важно, держит ли он в руках сматрфон или нет). В современных реалиях произошел не выход за предел ы, а перео предел ение системы образовательных координат человека, в которой сопрягаются «темпоральность/процессуальность (аналитика прерывности/непре-рывности времени конструирования самого себя как обучающегося) и пространственность/структур-ность (аналитика пространства, топология конструирования самого себя как обучающегося в тех или иных средах/условиях)» [1, с. 121].
Пути и способы сопряжения этих двух полюсов античные мыслители объединяли в понятии «забота о себе» (Платон, Ксенофонт, Исократ, Сенека, Цицерон и др.). Это понятие характеризовало ежедневную образовательную активность того, кто хочет обрести, а не потерять себя в потоке чужого жизненного опыта. Парадоксальным является то, что современный человек хочет того же самого, несмотря на то, что находится в иной системе образовательных координат. Человек не перестает заботиться о сохранении своей идентичности, даже когда чувствует себя абсолютно беззаботным (Ж. Бодрийяр) в окружении «психологических роботов» эпохи сверзанятости и потребления (Э. Фромм). Сегодня как никогда оказываются востребованными антропопрактики – новые практики обучения и воспитания и инструменты их осуществления, которые позволяют осуществить заботу о самом себе и своем образовании. K. Галсон и П.T. Уэбб указывают на «пространственно-временное сжатие» как одну из характеристик современной реальности, которая напрасно рассматривается вне связи с педагогической реальностью. По их мнению, практики «заботы о себе» – это практики, делающие доступными те или иные образовательные стратегии в тех местах, которые последовательно или даже параллельно занимает индивид [15, р.54]. Эти практики продолжают опираться на античную «заботу о себе», несмотря на то, что «выбор времен и пространств у современного индивида по сравнению с античностью и более (коммуникативная сеть и спектр возрастных стратегий), и менее широк (институциональность обучения, грани профессий)» [1, с.121–122].
Ритм жизни современного человека и острота понимания ценности времени востребуют особую организацию пространства жизни. Интернет пестрит фотоотчетами дизайнеров и простых пользователей о превращениях «типичной хрущевки» в пространство с несколькими рабочими местами, гардеробной, отделением для хранения двух горных велосипедов и даже маленьким балконным садиком, где можно качаться в гамаке. Некоторые сложности приспособления пространства под себя и свои нужды означает в дальнейшем легкость и приятность существования в купе с решением личных и/или профессиональных задач, т.е. особое течение времени. Ключевой заботой современного человека является забота об эргономичности. Античные корни слова «эргономика» указывают на необходимость повышенного внимания (=заботы) к установленному жизненному порядку (от др.-греч. «έργον» (дело, труд, работа, деятельность, долг, обязанность, необходимость, забота, беспокойство и др.) [3, с. 657– 658] и «νόμος» (обычай, установление, законоположение, закон) [4, с. 1138]). Эргономика образовательного пространства и времени, в котором действуют особые законы, и осуществляется особая работа, достаточно долго была сферой, которая мало заботила педагогику. Однако изменения последних десятилетий затронули все сферы человеческой деятельности и открыли для педагогов некий «ящик Пандоры», который уже никак нельзя закрыть и остается лишь утешаться тем, что под его крышкой все же осталась надежда. Надежда на то, что пространственно-временной континуум, в котором существует современный человек, все же может «содействовать делу воспитания» (К.Д. Ушинский).
Функциональность, персональность и гибкость, пожалуй, являются ключевыми характеристиками пространства и времени современного человека в целом и его образовательного пространства и времени в частности. Изменения функциональности достигается путем непосредственной, прямой перестройки традиционного образовательного пространства и оптимизации образовательного времени или путем создания абсолютно новых пространств с абсолютно иным течением образовательного времени. Это происходит, например, при оснащении классов и аудиторий современной техникой, расширении доступа к различным программным продуктам с удобными интерфейсами и широкополосному доступу к интернету, планировании рабочего места обучающегося, проектировании новых типов школьных зданий и т.д. Персональность связана со степенью адаптированности образовательного пространства и времени под конкретные образовательные запросы. Современного человека, потерявшего смартфон или переживший смерть ноутбука, не утешает мысль о приобретении точно таких же новых. Ему нужны именно те, утраченные, поскольку они уже настроены им под него и его нужды. «Прикепев» к старой модели телефона, человек не хочет менять его на новую модель, поскольку соблазн плюсов для него слабее минуса утраты своего второго, хоть и мобильного, но все же «я». Персональность образовательного пространства достигается путем простраивания индивидуальных образовательных маршрутов, создания личных страничек преподавателей, сохранения образовательных закладок (ссылок на интересные образовательные ресурсы в телефоне или компьютере) и многими другими способами. Выбор в пользу того или иного способа (или отказ от него), в свою очередь, изменяет течение образовательного времени. Гибкость образовательного пространства и времени отличает современную эпоху, в которой человек может учиться где угодно и когда угодно. Появление, например, виртуальных университетов с особым ирреальным пространством и со своим течением образовательного времени существенно изменяют работу познавательных структур человека и его познавательные потребности. Выбор образовательного контента, как и темп его освоения, становятся личным делом человека и напрямую связаны с его умением выделять и организовывать время для образования. В ряде современных исследований предпринята попытка проанализировать систему образовательных координат конкретного человека: осмыслить образовательные выборы в контексте жизненных выборов и стратегии образовательной непрерывности [7], осуществить рефлексию биографического времени в контексте опыта самообразования [10] и др.
Антропологический хронотоп педагогики этого века существенно отличается от такового в предыдущем столетии. Динамика изменений образовательных пространств указывает педагогам на пути и способы конструирования вариантов антропопрактик, а динамика изменений образовательного времени – на инструменты их осуществления. Осмысление антропологического хронотопа позволяет очертить контур проблемного поля современной педагогической антропологии, предметом которой является человек, ревностно заботящийся об эргономике образовательного пространства и времени. В этом проблемном поле, как нам видится, есть как минимум три области, заслуживающие внимания современных исследователей: антропология урбанистического образования, антропология образования в цифре и антропология непрерывности образования. Эти области отражают особенности функциональности, персональности и гибкости пространства и времени образования, в которых существует заботящийся о самом себе человек.
Антропология урбанистического образования. Большая часть населения земли живет в городах или недалеко от урбанистического центра. Градостроительные и информационные технологии заново открывают бесконечный и текучий urbs для того, кто претендует на статус образованного человека. Образно выражаясь, в «городских джунглях» [12] подрастают новые Маугли, которые не приемлют традиционные правила построения образовательного диалога «я-другой». Старшему поколению достаточно трудно понять, что их образование все еще проходит в городе, но он уже принципиально иной и его пространство и время иногда «сжимается» до статусов и коротких сообщений в социальных сетях, игр и сериалов, творения себе особых кумиров (вампиров, оборотней, хоббитов, эльфов и прочих «нереальностей» из культовых фильмов). Существует множество проектов и программ, призванных изменить образовательное пространство современного города и подстроиться, тем самым, под образовательное время горожанина любого возраста (проект «Children Friendly Cities» и форум «Child and Youth Friendly City Forum», инициированные ЮНИСЕФ; проект «Learning city», разработанный Институтом непрерывного образования ЮНЕСКО и др.).
О важности изменения образовательного облика российских городов еще в 2009 г. говорил Д.А. Медведев в Послании Федеральному Собранию, предлагая повсеместно конструировать «умные здания» и изменять традиционный облик школьного образовательного пространства [9]. Однако на практике быстро и массово уйти от серости и однообразности школьных пространств и запустить в них новый ритм времени образования не получается. Так, например, начало строительства в рамках образовательного проекта «Умная школа», инициированного Тиной Канделаки в 2011 г., начнется только в начале 2016 г. Результатом проекта, которым руководит Марк Сартан, станет образовательный комплекс и семейный поселок в Иркутской области [6]. По мнению М. Сартана, традиционная школа ориентирована только на фронтальную работу, а потому являет собой фабрику, на которой штампуют однотипные заготовки. Ключевой посыл инициаторов проекта заключается в том, что образовательное пространство должно приспосабливаться к учащимся, а не наоборот. Результат такого «приспособления» автор статьи совсем недавно наблюдала, посетив библиотеку им. Ф.М. Достоевского на Чистых прудах. Эта библиотека получила не только современный ремонт, но и визуальное изменение пространства, поскольку была включена в проект обновления городских библиотек. Проект преследовал целью изменить облик библиотек и превратить в городские гостиные – места, где любой желающий не только может почитать в тишине, но и организовать или посетить открытую лекцию, собрание клуба по интересам, просмотр фильма и т.д. О том, насколько измененное образовательное пространство библиотеки стало лучше выполнять свои функции, говорят цифры: до реконструкции библиотеку Ф.М. Достоевского посещало около трехсот человек в месяц, а после – более пяти тысяч [11]. Читатели библиотеки больше не тратят время на ожидание книг из книгохранилища, поскольку все книги находятся в открытом доступе на книжных стеллажах.
Это антропология урбанистического образования в действии, которую педагогике еще только предстоит осмыслить через антрополого-педагогические теории, концепции и программы. Столь существенные изменения библиотечного пространства продиктованы тем, что современный читатель хочет иначе взаимодействовать с информацией. В начале нового тысячелетия М. Эпштейн писал о том, что величайшие библиотеки мира возрастают в 140 раз за каждое столетие и анализировал последствия для человека такого информационного взрыва: «Значит, индивид все более чувствует себя калекой, который не способен полноценно соотносится с окружающей информационной средой. Это особого рода увечье, в котором человек лишается не внешних, а внутренних органов: зрение и слух принимают на себя чудовищную нагрузку, которой не выдерживает мозг и сердце» [13, с.36]. Современный читатель имеет опыт поиска знаний в открытой информационной среде (например, в интернете) и не хочет, чтобы библиотечная среда продолжала оставаться закрытой. Тот же самый опыт имеет и современный ученик любого возраста, поэтому для него так важно конструировать «умные здания» школ и университетов, отвечающие его пониманию функциональности, персональности и гибкости образовательного пространства и времени.
В поисках ответа на вопрос «как построить себя в городе?» античные наставники предлагали ученикам разные стратегии «заботы о себе», приемлемые для образованного человека и призванные упрочить его статус в глазах других. В сочинениях Платона, Ксенофонта, Исократа, Эпиктета, Сенеки, Марка Аврелия, Эпикура, Плотина и др. прямо или косвенно показаны частные и публичные образовательные пространства города, в которых находился заботящийся о себе человек и осуществлял ежедневную образовательную активность. Благодаря схождению в городе множества потоков социализации, влияющих на развитие человека, образовывалось «заботливое» образовательное пространство города, которое, по мнению античных авторов, было призвано помогать заботящемуся о собственном образовании человеку осуществлять длительную сознательную работу над собой. Существенные различия между современными и античными алгоритмами «заботы о себе» в пространстве города обуславливают трудности перевода педагогических стратегий и методов античных наставников в общее представление о том, кого на современном этапе следует считать заботящимся о самом себе человеком. Однако феномен «заботы о себе» продолжает оставаться связанным с феноменологией городского образовательного пространства: постоянным приобретением нового образования, идентификацией с изменчивой и текучей культурой города.
Антропология образования в цифре. В последнее время появляется все больше инициатив в сфере blended learning, media learning, smart-learning, e(lectronic)-learning, m(obile)-learning и др. Цифровизации образования стала трендом, который поддерживается на разных уровнях и наблюдается в переходе от бумажного к электронному формату книг и учебников, от реальных к виртуальным классным комнатам, от стандартных тестов к тестированию на платформах с мобильными приложениями (Classmarker, Google Drive, Kahoot!, Plickers, Quizlet и др.), от классических лекций к конструкторам образовательных материалов и социальным сетям для общения преподавателей и студентов (EduBrite, EdModo, Eliademy, Lore, Moodle и др.). Привычные сервисы развлекательной направленности, такие как Twitter, YouTube, Remind и др. активно расширяют свои настройки, превращаясь в образовательные инструменты. В гонку по наращиванию образовательной мощности включился даже Canon, создав eduCanon – он-лайн платформу, которая наряду с Blubbr, Easel.ly, EdPuzzle, Zaption и др., позволяет создавать видеоуроки, викторины, интеракивные пособия, превращая любую информацию в инфографику.
Такие бесплатные образовательные платформы как «Coursera», «Khan Аcademy», «MIT Open Courseware» и др. объединяют миллионы студентов и сотрудничают с десятками ведущих мировых университетов, преподаватели которых не только обеспечивают слушателям учебный контент, но и поддерживают процесс обучения на разных этапах. Среди отечественных образовательных платформ наиболее заметными являются «Универсариум» и «Цифровой университет», позиционирующие себя как межвузовские онлайн платформы для размещения преподавателям авторских образовательных он-лайн-курсов и включения университетов в совместные образовательные программы. Число размещенных в интернете бесплатных онлайн курсов от ведущих университетов таких как Оксфорд, Стэнфорд, Гарвард, Беркли и др. растет в геометрической прогрессии (в частности, под лозунгом «учись бесплатно» на одном из ресурсов собрано более восьмисот онлайн курсов по разным областям знаний).
Столь масштабный прорыв в области открытой публикации образовательного контента не мог остаться незамеченным крупными компаниями, которые конкурируют друг с другом в секторе образовательных платформ и надстроек, привлекая лучших веб-разработчиков и веб-дизайнеров. Однако он остался незамеченным педагогами, которые пока достаточно отстраненно смотрят на то, что практика образования в цифре значительно опережает теорию. Стать онлайн преподавателем или онлайн учеником достаточно просто. Сложнее делать осознанные образовательные выборы в широком спектре традиционного и инновационного, выделять время на обучение такого рода, отделять образовательные ресурсы от псевдообразовательных. Остро ощущается недостаток практик, которые бы приучали современного ученика (в широком понимании этого слова, вне четких возрастных границ) к обрушившейся на него образовательной свободе. Традиционно ученик был лишен права выбора для себя содержания образования. Переход образования к цифре открывает возможность таких выборов: теперь ведь каждый сам выбирает содержание образования на экране своего смартфона. Но и сам отвечает за разумность своего образовательного выбора.
При всей серьезности этой ответственности, она все же не впервые ложится на плечи человека. О ней, хоть и в иных формулировках, Сократ-наставник предупреждал Алкивиада-ученика, борясь за то, чтобы сущность образования как «заботы о себе» была им правильно понята. В противном случае, в логике Сократа, возникает псевдозабота о себе. Получив образец и алгоритм «заботы о себе» от наставника, древний грек был обязан следовать им в течение всей жизни, пусть и не в буквальном смысле. Для современного заботящегося о себе человека получение такого образца затруднительно из-за быстроты смены технологий, но «забота о себе» не айфон, который можно назвать «морально устаревшим» и менять каждые три года. Тем не менее, некий цикл смены технологии «заботы о себе», по-видимо-му, все же существует в любую эпоху и любом социуме. Есть и проблемы различий в скоростях изменений внутри одного и того же общества. Несмотря на то, что знание в цифре часто называют массовым и максимально востребованным, его все же трудно считать знанием, доступным всем и каждому. Делать осознанные образовательные выборы в широком спектре традиционного и инновационного, ожидать образовательного успеха, например, т.н. «неоцифрованным» социальным группам становится все сложнее. Любые практики «заботы о себе» – это практики, которые требуют определенного усилия от субъекта [15], однако эти усилия для тех, кто предпочитает online-заботу или offline-заботу, не будут одинаковыми. Современная «забота о себе», в том числе, представляет собой заботу о нахождении себя в пространстве и времени нового образования, где слишком много цифрового и слишком мало антропологического. Опыт понимания и осовременивания античного проекта «заботы о себе» позволяет ответить на вопрос, каким образом возможно осуществить образовательную заботу о себе в цифре и отграничить образовательное бытия от образовательного небытия, грозящего потерей самого себя.
Антропология непрерывности образования. « Непрерывное образование является особым феноменом – проявлением и выражением в современной педагогике идеи воспитания у человека ответственного отношения к образовательному проектированию самого себя в течение всей жизни» [8]. В современном мире Интернет перестает быть альтернативной реальностью, превращаясь в альтернативу реальности и заставляя задуматься о рисках, сопровождающих процесс перехода к новым стратегиям образовательной непрерывности. Новые технологии не только предлагают множество вариантов перехода «классического» в «сетевое», но и ставят под вопрос возможность образовательного успеха на протяжении всей жизни. Образовательные платформы, мобильные приложения, инфографика и многое другое выдвигают на первый план новые образовательные пространства города, в которых нужно непрерывно делать разумные образовательные выборы. Среди последних, например, могут быть: выбор в пользу получения образования в альтернативной школе или, напротив, выбор в пользу получения образования без привязки к конкретной школе; выборы студентов в пользу академической мобильности для продолжения или смены профиля образования; выборы взрослых людей, для которых непрерывность образования является отправной точкой карьерного роста.
«Современное непрерывное образование – это та точка, в которой рост образовательного потенциала личности осуществляется благодаря тому, что ею осознается (не)соответствие внутренних и внешних образовательных ожиданий и потребностей» [8]. Это особая стратегия постоянной заботы о себе, которая определена Р. Панаттони как индикатор, показывающий колебания идентичности («выше себя»/ «ниже себя»). В этой логике, важнейшей заботой человека является сохранение «Я» между начальной и конечной точкой движения при расширении собственных горизонтов [14]. Если признать, что забота о себе не есть данностью и «к ней нужно приучать и приучаться, то следует признать и то, что заботящийся о себе человек является особым субъектом педагогической lifelong-реальности» [1, с. 119]. В этой реальности наблюдаются постоянные движения педагогического маятника от общественного бытия к самобытию, т.е. от «lifelong education» (интеграция, гибкость и разнообразие образовательных институтов) к «lifelong learning» (потребность человека в непрерывном обучении). Заботящийся о самом себе проделывает над собой серьезную работу, меняя традицион- ную систему отношений «учитель–ученик» и стремясь стать учителем самому себе, т.е. выйти на новый уровень непрерывности образования. Это ученик нового типа, который требует новых антропопрактик, центрированных на внешне открытом и свободном диалоге педагога с взрослым (или совсем маленьким) учеником и собой как наставником. Построение такого диалога представляет собой лишь верхушку айсберга, под которой скрывается настоящая «terra incognita». При всей широте перспектив, где гарантия, что образование будет действительно непрерывным, а не суммой отдельных «прерывностей», значимых для человека на определенном этапе жизни, а потом утративших эту значимость или даже совсем ее не имевших.
Как бы ни разворачивались образовательные сценарии будущего и какие бы риски и проблемы не сопутствовали этим процессам, только человек принимает решение, будет ли для него образование непрерывной заботой или забавой. То, что современный «человек как предмет воспитания» хочет осуществлять все же именно образовательную заботу о самом себе, косвенно подтверждается недавними опросами общественного мнения. В опросе «My World 2015 Analytics» более семи миллионам респондентов из всех стран мира был задан вопрос: что сделает жизнь лучше? На первом месте оказалось «хорошее образование», уверенно опередив «хорошее здравоохранение», «хорошую работу», «честное правительство» и еще двенадцать показателей. Единство во мнении респондентов из разных стран разного пола, возраста, социального статуса, уровня образования говорит о многом. По результатам опроса молодежи YouthSpeak 2014, охватившего пятьдесят тысяч респондентов из разных стран, образование было определено подрастающим поколением как мощное оружие, способное изменить мир 75% опрошенных, несмотря на то, что 52% недовольны полученным образованием. Признание образования «оружием» свидетельствует не только об осознании того, что мы живем в эпоху «гонки вооружений» именно в этой сфере. Но и о том, что образование, как и любое оружие, требует ответственного обращения. Современная антропология образовательной непрерывности во многом строится на античных принципах, которые позволяли заботящемуся о себе человеку выстраивать траекторию развития с позиции «не навреди себе сам».
Педагогическая антропология XXI в.: в начале долгого пути. В современных реалиях педагогическая антропология уже не является областью, оперирующей всеми имеющимися на данный момент антропологическими данными, как это утверждали отечественные и зарубежные исследователи, стоящие у истоков оформления ее в самостоятельную область научного знания. Полностью справедливым остается утверждение К.Д. Ушинского о том, что педагогика находятся «в полном младенчестве», поскольку никак не может до конца обрести свою антропологическую основу. Сложности такого обретения во многом обусловлены тем, что каждой эпохе свойственна своя историческая динамика антрополого-педагогических представлений и свое понимание того, что есть пространство и время образования. Осмысление антропологического хронотопа педагогики XXI в. – дело будущего, которое начинается в настоящем и позволяет нам в первом приближении очертить контур проблемного поля современной педагогической антропологии, в центре которой находится человек, заботящийся о себе через образование.
Список литературы Педагогическая антропология XXI в. : проблемы и перспективы образовательной заботы о себе
- Безрогов В.Г., Пичугина В.К. Забота об идентичности: непрерывное образование vs исчезновение себя в период метамодерна//Социум и власть, 2014. №6 (50).
- Днепров Э.Д. Феномен Ушинского//Официальный сайт Б.М. Бим-Бада . URL: http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=722&binn_rubrik_pl_articles=102 (дата обращения: 11.08.2015)
- Древнегреческо-русский словарь/сост. И.Х. Дворецкий; под ред. С.И. Соболевского. М.: Гос. изд-во иностр. и нац. словарей. 1958. Т.1.
- Древнегреческо-русский словарь/сост. И.Х. Дворецкий; под ред. С.И. Соболевского. М.: Гос. изд-во иностр. и нац. словарей. 1958. Т. 2.
- Колесникова И.А. Педагогическое вопрошание о человеке будущего//Непрерывное образование: XXI век, 2015. Вып.2(10). . URL: http://lll21.petrsu.ru/journal/article.php?id=2803 (дата обращения: 11.08.2015)
- Курганова М. В России разработаны образцы "умных школ"//Учительская газета . URL: http://www.ug.ru/news/15587 (дата обращения: 11.08.2015)
- Куц В.А. Непрерывное образование -опыт саморефлексии//Непрерывное образование XXI век, 2013. Вып.4. . URL: http://lll21.petrsu.ru/journal/article.php?id=2164 (дата обращения: 11.08.2015)
- Пичугина В.К. Генезис и модификации заботы о непрерывном образовании//Непрерывное образование: XXI век, 2014. Вып.3(7) . URL: http://lll21.petrsu.ru/journal/atricle.php?id=2442 (дата обращения: 11.08.2015)
- Послание президента РФ Дмитрия Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации//. URL: http://www.rg.ru/2009/11/13/poslanie-tekst.html (дата обращения: 11.08.2015)
- Роботова А.С. Словесно-гуманитарные основы самообразования: рефлексия биографического времени//Непрерывное образование XXI век, 2013. Вып. 2. . URL:http://lll21.petrsu.ru/journal/article.php?id=2083 (дата обращения: 11.08.2015)
- Шмагун О. Москва в цифрах: Сколько человек посещают библиотеки нового типа//. URL: http://www.the-village.ru/village/city/moscow-in-figures/137509-biblioteka (дата обращения: 01.07.2015)
- Фрумин И. Дети городских джунглей: как сделать их счастливыми? Лекция проведена в рамках Ученого совета Москвы, Высшая школа экономики, Москва, 2014, Август 13. URL: http://youtube.com/watch?v=Ob2VhR3rMWc (дата обращения: 03.05.2015)
- Эпштейн М. Постмодерн в России. Литература и теория. М.: Издание Р. Элинина, 2000.
- Panattoni R. Le direzioni di significa to an tropologiche dell ’orizzon tali tà e della ver ticali tà//Thaumazein. Cura sui e autotrascendimento. La formazione di sé fraantico e postmoderno, 2013. №1.
- Webb P.T., Gulson K.N. Policy intensions and the folds of the self//Educational theory, 2013.63(1).