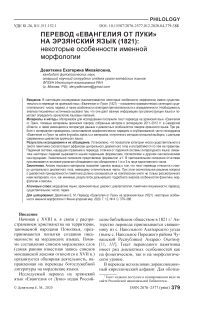Перевод "Евангелия от Луки" на эрзянский язык (1821): некоторые особенности именной морфологии
Автор: Девяткина Е.М.
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 4 т.12, 2020 года.
Бесплатный доступ
Введение. В настоящем исследовании рассматриваются некоторые особенности морфологии имени существительного в переводе на эрзянский язык «Евангелия от Луки» (1821) - показатели грамматических категорий существительного: числа, падежа, а также особенности категорий притяжательности и определенности. Необходимость анализа письменных источников вызвана тем, что они дают важную информацию при реконструкции языка и помогают определить хронологию языковых явлений. Материалы и методы. Материалом для исследования послужили текст перевода на эрзянский язык «Евангелия от Луки», полевые материалы эрзянских говоров, собранные автором в экспедициях 2011-2012 гг. в Самарской области, а также имеющиеся в литературе данные о диалектных особенностях говоров эрзянского языка. При работе с материалом проводилось сопоставление морфологических парадигм в опубликованной части конкорданса «Евангелия от Луки» на сайте lingvodoc.ispras.ru и материала, полученного методом сплошной выборки, с данными современных диалектов эрзянского языка. Результаты исследования и их обсуждение. Установлено, что показатели категории числа существительного в тексте памятника соответствуют аффиксам центрального диалектного типа и употребляются по тем же правилам. Падежная система, нашедшая отражение в переводе, отлична от падежной системы литературного языка: семантика некоторых падежей выражается иными падежными формантами, послелогами и другими синтаксическими конструкциями. Указательное склонение представлено формантом -s’t’. В притяжательном склонении отчетливо прослеживается числовое различие обладаемого при обладателе в 1-м и 3-м лице единственного числа. Заключение. Анализ языкового материала позволяет сделать вывод о том, что текст перевода относится к говору центрального диалектного типа, имеющему отличительные черты. При этом окончательное решение вопроса о диалектной принадлежности памятника должно основываться на комплексном учете не только рассмотренного нами материала, но и, как минимум, результатов дальнейшего подробного анализа особенностей фонетики, морфологии и лексики.
Мордовские языки, эрзянский язык, диалект, диалектология, памятники письменности, перевод, существительное, число, падеж
Короткий адрес: https://sciup.org/147217990
IDR: 147217990 | УДК: 81-26, | DOI: 10.15507/2076-2577.012.2020.04.379-388
Текст научной статьи Перевод "Евангелия от Луки" на эрзянский язык (1821): некоторые особенности именной морфологии
Начиная с XVIII в. в связи с распространением христианства на территории, занимаемой народами Поволжья, предпринимаются попытки создания письменности на мордовских языках. Помимо составления списков мордовских слов (самая ранняя известная запись списков мокшанской лексики относится к XVII в.) организуется обширная деятельность, направленная на переводы богослужебной литературы на мордовские языки.
Исследуемый перевод на эрзянский язык «Евангелия от Луки» издан Россий-
ским библейским обществом в 1821 г.1 Авторство перевода приписывается священнику из с. Напольного Алатырского уезда (ныне с. Напольное Порецкого района Чувашской Республики) Андрею Охотину [11, 111 ]. Текст переводного памятника имеет ряд диалектных особенностей как на фонетическом, так и на морфологическом уровне.
В переводе использован дореволюционный кириллический алфавит. Для обозна- чения фонем, свойственных говору памятника, введены дополнительные графемы, в тексте отмечено словесное ударение [5].
В статье рассматриваются особенности морфологии имени существительного памятника «Евангелие от Луки» – показатели грамматических категорий существительного: числа, падежа, а также особенности категорий притяжатель-ности и определенности.
Обзор литературы
Исследованием становления письменности на мордовских языках занимались Н. С. Адушкина [1; 2], И. А. Кубанцева [9; 10], А. П. Феоктистов [15; 16] и другие ученые. Подробный лингвистический анализ переводов богослужебной литературы на финно-угорские языки представлен, в частности, в работах М. П. Безеновой [3; 4; 13], Е. М. Девяткиной [5], Е. В. Кашкина [8], Н. В. Кондратьевой [4], И. М. Молдановой [17], Ю. В. Норманской [12; 13; 17].
Материалы и методы
Материалом для исследования послужили текст перевода на эрзянский язык «Евангелия от Луки», полевые материалы эрзянских говоров, собранных автором в экспедициях 2011–2012 гг. в Самарской области, а также имеющиеся в литературе данные о диалектных особенностях говоров эрзянского языка. При работе с материалом проводилось сопоставление морфологических парадигм в опубликованной части конкорданса «Евангелия от Луки»2 и материала, полученного методом сплошной выборки, с данными современных диалектов эрзянского языка.
Результаты исследования и их обсуждение
Имя существительное в эрзянском языке имеет грамматические категории числа, падежа, притяжательности, определенности. Показатели всех этих категорий представлены в тексте памятника. Данные категории реализуются в формах трех типов склонения – основного (неопределенного), указательного и притяжательного. Рассмотрим их подробнее.
Категория числа
В современном эрзянском языке данная категория основана на количественном противопоставлении по признакам единичности – множественности. В «Грамматике мордовских языков» отмечается, что «единственное число… выступает как первый член оппозиции количественного отношения одного и более одного. Его морфологическим показателем является исходная (нулевая) форма имени»3.
Множественное число имеет показатели -t/-t’ , -n , -k, причем -t/-t’ употребляется в номинативе основного склонения и как составная часть сложного аффикса во всей парадигме указательного склонения, в притяжательном склонении; -n, -k – в притяжательном склонении.
В большинстве диалектов эрзянского языка суффикс -t/-t’ выступает в двух реализациях – твердой и мягкой. В отдельных говорах (чрм., куз., нск., шуг.) обнаруживается только твердый вариант (ед. ч. ki ‘дорога’ - мн. ч. лит. kit’ ‘дороги’ - шуг. kit ‘дороги’)4.
Отметим, что в основном склонении множественное число имеет суффикс -t/-t’ только в номинативе. В остальных падежах корреляция множественного числа не проявляется. Этим мордовские языки и их диалекты отличаются от других финно-угорских языков. Для выражения идеи множественности предметов используются формы множественного числа указательного склонения. В ряде случаев формы соответствующих падежей единственного числа основного склонения, несмотря на их немаркированность, могут в зависимости от контекста приобретать значение множественности.
В тексте памятника аффиксы множественного числа соответствуют аффиксам
Таблица 1 / Table 1
|
Язык памятника / Language of the manuscript |
Литературный язык / Literary Language |
Глосса / Glossa |
Значение / Meaning |
|
эри́ця-тъ |
эрицят |
житель – PL |
жители |
|
пря́нь шныця-тъ |
прянь шныцят |
гордец – PL |
гордецы |
|
свято́й-ть |
святойть |
святой – PL |
святые |
|
чи-т-не́-сте |
читнестэ |
день – PL-ID-EL |
из этих дней |
|
пяли́ця-т-не-нень |
пелицятненень |
боящийся – PL-ID-DAT |
к боящимся |
Таблица 2 / Table 2
|
Язык памятника / Language of the manuscript |
Литературный язык / Literary Language |
Глосса / Glossa |
Значение / Meaning |
|
эйка́кшъ |
эйкакш |
ребёнок |
ребёнок |
|
Iису́съ |
Иисус |
Иисус |
Иисус |
|
чи́ |
чи |
день |
день |
Таблица 3 / Table 3
Категория падежа
Эрзянский язык относится к многопадежным языкам, имея развитую падежную систему. Система склонения литературного эрзянского языка представлена 12 падежами, которые по выражаемым значениям и синтаксическим функциям можно разделить условно (по традиции) на три основные группы: 1) субъектно-объектные (номинатив, генитив, датив, аблатив); 2) местные (инессив, элатив, иллатив, латив, прола-тив); 3) атрибутивные (компаратив, абессив, транслатив)6. В диалектах, где наблюдаются процессы двоякого рода – возникновение новых падежных форм из послелогов и замена падежных форм послеложными конструкциями, состав падежей неодинаков.
Фонетические варианты (или алломорфы) падежных окончаний зависят от качества конечного звука основы имени существительного: согласного или гласного; согласного парного или непарного; палатализованного или непалатализованного пар- ного согласного; гласного заднего или переднего ряда и т. д. [14, 289].
Номинатив основного склонения в тексте рассматриваемого памятника имеет нулевой показатель, что соответствует литературному эрзянскому языку и его диалектам (табл. 2).
Генитив основного склонения в эрзянском литературном языке представлен формантом -n’ , в диалектах - алломорфами -n/-n’ . Формант -n’ распространен в большинстве диалектов и охватывает в каждом из них основы существительных с любым конечным гласным и согласным.
Д. В. Цыганкин отмечает, что алломорфа -n ограничена и в отношении круга охватываемых слов, и территориально. Она фиксируется в ряде говоров у существительных с основой на твердый согласный с предшествующим гласным заднего ряда, со всеми другими конечными основами генитив в этих же говорах имеет, как и в литературном языке, алломорфу -n’ 7.
В исследуемом памятнике генитив выражен наиболее распространенным формантом (табл. 3).
Таблица 4 / Table 4
|
Язык памятника / Language of the manuscript |
Литературный язык / Literary Language |
Глосса / Glossa |
Значение / Meaning |
|
Елисавҍта-нень |
Елизаветанень |
Елизавета – DAT |
Елизавете |
|
кудо́-ст-ень |
кудонтень |
дом – ID-DAT |
дому |
|
ава́н-ст-ень |
авантень |
мать – ID-DAT |
матери |
|
пяли́ця-т-не-нень |
пелицятненень |
боящийся – PL-ID-DAT |
к боящимся |
|
тятя́-т-не-нень |
тетятненень |
отец – PL-ID-DAT |
отцам |
Таблица 5 / Table 5
|
Язык памятника / Language of the manuscript |
Литературный язык / Literary Language |
Глосса / Glossa |
Значение / Meaning |
|
Па́з-до |
Паздо |
Бог – ABL |
о Боге |
|
пле́ма-до |
племадо |
племя, род – ABL |
о роде |
|
эйка́кш-до |
эйкакшто |
ребёнок – ABL |
о ребёнке |
|
иди́ма-до |
идемадо |
спасение – ABL |
о спасении |
|
чи́-де |
чиде |
день – ABL |
о дне |
Таблица 6 / Table 6
|
Язык памятника / Language of the manuscript |
Литературный язык / Literary Language |
Глосса / Glossa |
Значение / Meaning |
|
о́йм-се |
оймеялтсо |
дух – IN |
в духе |
|
ля́м-се |
лемсэ |
имя – IN |
в имени |
|
чи́ лисьме-се |
чилисемасо |
восток – IN |
на востоке |
|
че́кс-т-не-се |
тешкстнесэ |
знак – PL-ID-IN |
в знаках |
Наиболее употребительная морфема датива основного склонения в эрзянском диалектном ареале представлена алломорфой -n...n’ с гласным между согласными элементами суффикса. Хотя во многих говорах, относящихся к северозападному типу, морфема датива реализуется алломорфой -nV , в отдельных говорах за конечной гласной основы следует алломорфа -jen’ . В некоторых говорах юго-восточного типа датив оформляется, как в мокшанском языке, алломорфой -n’d’i.
Формы датива в памятнике соответствуют наиболее распространенной форме, также использующейся в литературном языке (табл. 4).
Аблатив на всей территории распространения эрзянского языка реализуется суффиксами -dV, -tV, выступающими в виде нескольких фонетических вариантов, обусловленных характером основы имени существительного и диалектным типом. Как известно, в ряде эрзянских говоров, бытующих за территорией Республики Мордовия, аблатив представлен вариантами -do/-to : v’e’l’e-do ‘о (от) деревне(и)’, p’iks-to ‘о (от) веревке(и)’.
Данные рассматриваемого памятника показывают совпадение форм падежа с центральным диалектным типом (табл. 5).
В преобладающем большинстве диалектов инессив представлен формантом -sV ( -so, -su, -sa, -se, -si ) . Менее частотны случаи использования алломорф -snV, -nV, которые в ряде говоров обусловлены характером основы (например, конечным s или z ), в других такой регламентации не требуется8. Есть также ряд говоров, где формант -snV встречается после любой согласной и гласной конечной основы.
Данные памятника демонстрируют совпадение с центральным диалектным типом (табл. 6).
Элатив в диалектах эрзянского языка выражен формантом -stV . Качество гласного алломорфы зависит от характера основы и типа диалекта: центральный – kudo-stо ‘из дома’; западный – kudu-stu ‘из дома’; северо-западный – kudo-sto ‘из дома’; юго-восточный – kudi-sta ‘ из дома’; западно-шокшанский – kudi-sta ‘из дома’ .
PHILOLOGY
Таблица 7 / Table 7
|
Язык памятника / Language of the manuscript |
Литературный язык / Literary Language |
Глосса / Glossa |
Значение / Meaning |
|
чи́-сте |
чистэ |
день – EL |
из дня |
|
чы́ -т-не-сте |
читнестэ |
день – PL-ID-EL |
из этих дней |
|
кудо́-сто |
кудосто |
дом – EL |
из дома |
|
чама́-сто |
чамасто |
лицо – EL |
от лица |
Таблица 8 / Table 8
|
Язык памятника / Language of the manuscript |
Литературный язык / Literary Language |
Глосса / Glossa |
Значение / Meaning |
|
о́шо-съ |
ошос |
город – ILL |
в город |
|
кудо́-съ |
кудос |
дом – ILL |
в дом |
|
ки́рдема-съ |
кирдемас |
держание – ILL |
в правление |
Таблица 9 / Table 9
|
Язык памятника / Language of the manuscript |
Литературный язык / Literary Language |
|
ни́-ксъ |
никс |
|
Глосса / Glossa |
Значение / Meaning |
|
жена – TRNSL |
женой |
Формы элатива в памятнике соответствуют формам литературного языка и центрального диалектного типа (табл. 7).
Иллатив представлен формантом -s , использующимся во всех эрзянских диалектах. В притяжательном склонении иллатив имеет показатель -z , который в интервокальной позиции переходит из -s .
Данные рассматриваемого памятника показывают совпадение с центральным диалектным типом (табл. 8).
Латив имеет алломорфы, использующиеся в различных говорах диалектного ареала эрзянского языка: -v, -j, -u, -ŋ. На большей части территории распространения эрзянского языка существительные на гласную и согласную основу оформляются алломорфой -v: kudo-v, vele-v . В некоторых говорах морфема латива представлена двумя алломорфами: -v, -j, употребление которых зависит от ряда гласных слова. Другая группа говоров имеет в лативе показатель -ŋ . В отдельных говорах северо-западного диалектного типа вместо ожидаемого варианта -v в словах с конечной гласной заднего ряда выступает -j: sat kudo-j ‘приедешь домой’.
В рассматриваемом памятнике мы не обнаружили употребления указанных формантов латива, вместо них прослежива- ется использование форманта иллатива: Евангелие эрз. И зя́рдо сы́ нь прядо́втызь, вя́се Па́зонь зако́нонь кува́лма, вяля́вцть Галиле́а-съ есь о́шо-съ Назаре́т-съ9 – лит. эрз. Зярдо Иосиф ды Мария теизь весе-менть истя, кода кармавтсь Азоронь Ко-есь, сынь велявтсть Галилея-в, эсест Назарет ошо-в10 ‘И когда они совершили всё по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет’11.
На большей части территории эрзянского диалектного ареала морфема пролатива представлена тремя алломорфами: -ka, -ga, -va. Употребление вариантов в одном и том же диалекте обусловлено характером основы: -va – после гласной, -ka – после глухой согласной, -ga – после звонкой согласной основы.
Материал памятника показывает отсутствие употребления рассматриваемого суффикса. В тексте памятника прослеживается использование послеложных конструкций.
Морфема транслатива в эрзянском диалектном ареале оформляется одной алломорфой -ks , различия в говорах наблюдаются лишь в вокалическом элементе между основой и суффиксом12.
Необходимо отметить, что в тексте памятника транслатив употребляется крайне редко (табл. 9).
Таблица 10 / Table 10
|
Язык памятника / Language of the manuscript |
Литературный язык / Literary Language |
Глосса / Glossa |
Значение / Meaning |
|
ко́й-сть |
коенть |
обычай – ID-GEN |
этого обычая |
|
кудо́-ст-ень |
кудонтень |
дом – ID-DAT |
этому дому |
|
ю̂фтле́зе-ст-ень |
ёвтазентень |
сказанное – ID-DAT |
этому сказанному |
|
соды́ -т-не-нь |
содыцятнень |
знающий – PL-ID-GEN |
этих знакомых |
|
лома́-т-не-нь |
ломантнень |
человек – PL-ID-GEN |
этих людей |
|
че́кс-т-не-се |
тешкстнесэ |
знак – PL-ID-IN |
в этих знаках |
Морфема компаратива представлена в эрзянском диалектном ареале двумя алломорфами: -ška, -čka . Формант - ška наиболее употребителен, характерен практически для всех говоров эрзянского языка. Алломорфа -čka имеет ограниченную территориальную сферу распространения и группу охватываемых ею слов. Указанная форма компаратива не прослеживается в тексте памятника, значение выражается иными синтаксическими конструкциями.
Приведем пример соответствия перевода и литературного варианта Евангелия, использующего форму компарати-ва: Евангелие эрз. Те́ Iису́съ у́льць ся́сте колонгя́мень íйсе ; и у́льць, кода́ а́рцесть, цю̂ра́ Iо́сифонь, Илiень 13 – лит. эрз. Иисус-нэнь ульнесть колоньгеменьшка иеть , зярдо Сон ушодызе Эсензэ тевензэ. Сон – кода весе арсесть – ульнесь Иосифень цё-ракс. Иосиф ульнесь Илиянь цёракс 14 ‘Иисус, начиная Свое служение, был лет тридцати , и был, как думали, Сын Иосифов, Илиев’15.
В эрзянском диалектном ареале морфема абессива оформляется двумя алломорфами, реализующимися в виде нескольких вариантов. Каждая из алломорф выступает в одном и том же диалекте, и любая из них охватывает определенные классы существительных с соответствующим характером основ: -vtomo/-vt’em’e, -tomo/-t’em’e, -ftomo/-ft’em’e 16 . Форма абессива не прослеживается в тексте памятника.
Указательное склонение
В парадигме указательного склонения в литературном языке различаются десять падежных форм (номинатив, генитив, датив, аблатив, инессив, элатив, иллатив (форма совпадает с дативом), пролатив, компаратив, абессив). Морфемы определенности в парадигме склонения единственного числа неодинаковы. Наиболее яркая изоглосса, нашедшая отражение в памятнике, такова: в тексте перевода прослеживается употребление форманта -s’t’ в генитиве единственного числа, -s’t’en’ в дативе единственного числа.
В диалектах существуют варианты: генитив -n’t’ , датив -n’t’en’ либо генитив -t’ , датив -t’i .
Во всех падежных формах множественного числа присутствует одна морфема определенности -n’e/-ne , которая находится перед падежными суффиксами (табл. 10).
Таким образом, в тексте памятника в косвенных падежах указательного склонения существительных употребляется формант -s’t’ , наиболее характерный для говоров северо-западного диалектного типа. Однако нельзя исключать возможное употребление форманта -s’t’ в некоторых говорах центрального диалектного типа.
Притяжательное склонение
В притяжательном склонении эрзянского языка выражаются числовые отношения обладателя и обладаемого. Достаточно подробно диалектная система посессивных суффиксов описана Д. В. Цыганкиным17, особое внимание ей уделяется в работах Г. И. Ермушкина [6; 7] и др. Необходимо отметить, что в эрзянском диалектном ареале фиксируется
Таблица 11 / Table 11
Заключение
Исследуемый текст переводного памятника «Евангелие от Луки» имеет ряд диалектных особенностей как на фонетическом, так и на морфологическом уровне. Было бы логично предположить, что автор перевода, священник из с. Напольного Алатырского уезда Андрей Охотин, осуществил перевод на говоре указанной местности. Анализ языкового материала позволяет сделать вывод о том, что текст перевода относится к иному говору – центрального диалектного типа, имеющего свои отличительные черты.
Безусловно, окончательное решение вопроса о диалектной принадлежности памятника должно основываться на ком- плексном учете не только рассмотренного нами материала, но и, как минимум, результатов подробного анализа особенностей фонетики, морфологии и лексики.
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
3 – 3-е лицо ед. ч. – единственное число куз. – говор с. Кузайкино (Альметьевский район Республики Татарстан)
лит. – литературный язык мн. ч. – множественное число нск. – говор с. Наскафтым (Шемышей-ский район, Пензенская область)
чрм. – говор с. Черемшан (Черемшанский район Республики Татарстан)
шуг. – шугуровский диалект эрзянского языка (Республика Мордовия)
эрз. – эрзянский язык
ABL – аблатив
DAT – датив
EL – элатив
GEN – генитив
ID – указательное склонение
ILL – иллатив
IN – инессив
NOM – номинатив
PD – притяжательное склонение
PL – множественное число
SG – единственное число
TRNSL – транслатив
Поступила 15.11.2020, опубликована 25.12.2020
TRANSLATION OF THE “GOSPEL
OF LUKE” (1821) INTO ERZYA:
Список литературы Перевод "Евангелия от Луки" на эрзянский язык (1821): некоторые особенности именной морфологии
- Адушкина Н. С. Из истории становления мордовской письменности // Труды Научно-исследовательского института языка, литературы, истории и экономики при Совете Министров Мордовской АССР. Саранск, 1967. Вып. 32. С. 144-159.
- Адушкина Н. С. Кода шачсь мокшэрзянь алфавитсь // Мокша. 1971. № 2. С. 82-85.
- Безенова М. П. Наставление христианское святителя Тихона на вотском языке (1891) (Зеч кылъёс. Святой Тихонлэн зечлы дышетэм кылъёсыз): глагольная морфология // Урало-алтайские исследования. 2018. № 1 (28). С. 7-22.
- Безенова М. П., Кондратьева Н. В. К особенностям перевода «Закона Божия» (1912 г.) на удмуртский язык: графика, орфография, фонетика // Урало-алтайские исследования. 2019. № 3 (34). С. 7-52.
- Девяткина Е. М. Начальный этап возникновения мордовской письменности: к особенностям перевода «Евангелия от Луки» (1821) на эрзянский язык // Финно-угорские народы в контексте формирования общероссийской гражданской идентичности и меняющейся окружающей среды: материалы Междунар. науч. конф. (г. Саранск, 8-9 октября 2020 г.). Саранск, 2020. С. 158-161.
- Ермушкин Г. И. Ареальные исследования по восточным финно-угорским языкам (эрзя-мордовский язык). Москва: Наука, 1984. 142 с.
- Ермушкин Г. И. О нулевой форме множественного числа обладаемого притяжательной конструкции в эрзя-мордовском языке // Вопросы финно-угроведения. Йошкар-Ола, 1970. Вып. 5. С. 36-40.
- Кашкин Е. В. Памятник хантыйской письменности «Священная история»: некоторые морфологические особенности // Предложение как единица языка и речи: материалы Всерос. науч. симпозиума с междунар. участием, посвящ. 95-летию со дня рождения М. И. Черемисиной (г. Новосибирск, 8-11 октября 2019 г.). Новосибирск, 2019. С.103-105.
- Кубанцева И. А. Переводные книги XIX в., используемые в просвещении мордвы // Интеграция образования. 2013. № 4 (73). С. 78-83.
- Кубанцева И. А. Переводческая комиссия Православного миссионерского общества при Братстве святителя Гурия: особенности деятельности по продвижению книг для мордвы // Румянцевские чтения -2020: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (г. Москва, 21-24 апреля 2020 г.). Москва, 2020. С. 444-447.
- Можаровский А. Ф. Изложение хода миссионерского дела по просвещению казанских инородцев, с 1552 по 1867 год. Москва: О-во истории и древностей рос. при Моск. ун-те, 1880. 262 с.
- Норманская Ю. В. Новые полевые и архивные данные по мансийским диалектам и их значение для прамансийской реконструкции системы вокализма первого слога // Урало-алтайские исследования. 2015. № 4. С. 63-78.
- Норманская Ю. В., Безенова М. П. О важности первых миссионерских книг для изучения истории удмуртского языка. Дискуссионная заметка к статье В. В. По-нарядова «О двойных огласовках удмуртских суффиксов» // Урало-алтайские исследования. 2018. № 1 (28). С. 78-88.
- Основы финно-угорского языкознания: Прибалтийско-финские, саамский и мордовские языки. Москва: Наука, 1975. 347 с.
- Феоктистов А. П. Истоки мордовской письменности. Москва: Наука, 1968. 100 с.
- Феоктистов А. П. Очерки по истории формирования мордовских письменно-литературных языков (ранний период). Москва: Наука, 1976. 260 с.
- Moldanova I., Normanskaja Ju. The Graphical Features of the first texts in the Khanty language // 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018. P. 197-204.