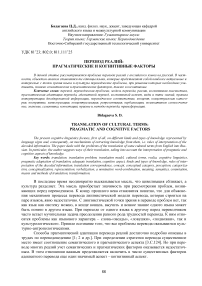Перевод реалий: прагматические и когнитивные факторы
Автор: Бидагаева Ц.д
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu
Рубрика: Гуманитарные науки
Статья в выпуске: 3 (26), 2009 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассматривается проблема перевода реалий с английского языка на русский. В частности, объектом анализа становятся те единицы языка, которые представляют собой наиболее актуальные и интересные с точки зрения языка и культуры переводческие проблемы, при решении которых необходимо учитывать помимо семантических и прагматических факторов, также и когнитивные.
Семантика, коннотация, приемы и методы перевода, трансформация
Короткий адрес: https://sciup.org/142142128
IDR: 142142128 | УДК: 81'23;
Текст научной статьи Перевод реалий: прагматические и когнитивные факторы
В последнее время неоднократно высказывается мысль, что цивилизация сближает, а культура разделяет. Эта мысль приобретает значимость при рассмотрении проблем, возникающих перед переводчиком. К концу прошлого века становится понятно, что для объяснения механизмов процесса перевода лингвистической модели перевода, которая строится на паре языков, явно недостаточно. С лингвистической точки зрения в переводе проблем нет, так как язык как систему можно, в конце концов, выучить и всякое знание одного языка может быть понято в другом языке. При переходе от одного языка к другому перед переводчиком часто встает мучительная задача преодоления разного рода трудностей перевода. К ним относятся проблемы как языкового характера – слова-«засады», «ловушки», «подножки», так и культурологического. Пришло осознание того, что все проблемы перевода оказываются культурно-антропологическими.
Способы прагматической адаптации перевода реалий достаточно подробно описаны в трудах по переводоведению [1; 2 и др.]. При определении стратегии перевода существенное место имеет соотношение семантического и прагматического аспекта [3.C.124]. Но при переводе многих реалий учет семантических и прагматических факторов оказывается недостаточным. В этом отношении важным представляется включить в число существенных факторов адекватного перевода еще один значимый аспект – когнитивный аспект.
Одной из главных проблем современной лингвистики как когнитивно ориентированной науки является сосредоточение на видах и типах знаний, представленных в языковых знаках (гносеология), и механизм извлечения из знаков этих знаний, т.е. правила интерпретации (когнитивная семантика и прагматика, а следовательно, и синтактика) [4]. В этой связи следует остановиться более подробно на когнитивных факторах перевода. Как пишет И.К. Рябцева: «В процессе перевода переводчик использует/активизирует различные типы и виды знаний и умений, и производит/активизирует различные типы и виды мыслительных операций (большинство из которых протекает на подсознательном, автоматизированном уровне). Активизация знаний, умений и мыслительных операций происходит, когда переводчик сталкивается с какой-либо трудностью в процессе перевода (при этом в большинстве случаев происходит деавтоматизация мыслительной деятельности, т.е. переход на сознательный уровень» [5. С. 104].
Концепты подводятся под ту или иную концептуальную (понятийную) категорию . Категоризация и концептуализация явлений мира отличаются от одного коллектива к другому, обусловливая разную организацию этнических картин мира. Концептуализация закрепляет в системе знаний элементы опыта: «Человеческое сознание производит всякий раз своеобразную концептуализацию реалий окружающего мира в зависимости от национальных этно-, гео-, социо-, психо- и другого рода факторов [7 C.39]. На каждом новом этапе познания эти элементы упорядочиваются или подвергаются категоризации в соответствии с понятийными системами, закрепленными опытом данного этноса в языке. Результаты работы мышления перекодируются средствами конкретного этнического звукового языка ( вербализация ). Схематично этапы прохождения информации о мире через сознание человека А.В. Кравченко предлагает представлять в виде иерархической цепочки: «восприятие ^ категоризация ^ концептуализация ^ репрезентация ^ коммуникативное взаимодействие (вербализация в языке)^ репрезентация (языковых взаимодействий) ^ восприятие» [4].
Следовательно, концепт не является равнозначным значению, то есть концептуальный уровень противопоставляется семантическому как базовый уровень ментальных репрезентаций или концептов разного типа, а когнитивные (концептуальные) категории не приравниваются к семантическим категориям.
Несоответствие различных культур как совокупностей моделей поведения людей, способов и результатов их деятельности, проявляющееся в результате межкультурных контактов, а также сложившиеся в обществе представления и суждения о мире неизбежно приводят к заимствованию необходимых элементов, к отторжению неприемлемых из-за национальнокультурных стереотипов и интерференции наиболее распространенных. Очевидно, что суще- ствуют общечеловеческие, почти тождественные понятия, а для каждой национальной концептуальной картины мира есть и свои национально-специфические, для обозначения которых пользуются разными терминами: слова с национально-культурным компонентом значения, «слова-реалии», «языковые реалии» и просто «реалии».
Само слово «реалия» латинского происхождения. Это прилагательное (realis, -e, мн. re-alia – ‘вещественный’ и ‘действительный’), превратившееся под влиянием аналогичных лексических категорий в существительное «предмет, вещь» [8. C. 429].
О реалиях, как о носителях колорита, зримых элементах национального своеобразия стали говорить лишь в начале 1950-х годов. История вопроса подробно освещена в работе С. Влахова и С. Флорина «Непереводимое в переводе» [9 С. 19-48]. Этой области уделяют внимание в той или иной степени практически все теоретики перевода. Г.В Чернов пишет о реалиях, пользуясь, однако, названием «безэквивалентная лексика» [10. С. 223-224], ссылаясь на работы Г.В. Чернова, А.В. Федорова, Я.И. Рецкера, И. Келлера и др.. Как пишут С. Влахов и С. Флорин, у западных авторов нет термина для реалий в нашем понимании. В частности, у П. Ньюмарка они называются national institutional terms [11. С. 32], которые соотносятся с нашими «общественно-политическими реалиями» , и cultural terms , которые охватывают большинство остальных реалий. Неоднозначность трактовки понятия «реалия», видимо, также объясняется тем, что слово «реалия» не зафиксировано в первом словаре переводческих терминов А.Д. Швейцера [12. С. 270-275].
Как упоминалось, в литературе реалии трактуются двояко. С одной стороны, реалиями называют предметы и явления, отражающие особенности жизни и быта определенного народа. С другой стороны, реалиями также называют слова и словосочетания, обозначающие эти предметы и явления [13. С. 32]. Иными словами, под реалией понимают как наименование референта, так и отображающего его понятие в языке, которое одето в «национальную одежду» и несет национально-специфическую информацию. Под языковыми реалиями Г.Д. Тома-хин понимает специфические для языка единицы, отражающие особенности исторического общества, народа, его социально-политической жизни, экономических условий, географической среды, материальной и духовной культуры носителей английского языка [14]. А.Д. Швейцер также относит к языковым реалиям этимологически не исконные слова в языке, термины-реалии, которые принадлежат как к терминам, так и к реалиям: фольклорные реалии, реалии из сфер бизнеса и финансов, а также географические и исторические реалии [15].
Не вдаваясь в проблему наиболее удачного термина, в дальнейшем мы будем пользоваться термином «языковая реалия». Мы понимаем под языковыми реалиями, вслед за Е.М. Верещагиным и В.Г. Костомаровым, номинативные словосочетания, то есть такие сочетания слов, которые семантически равны слову в отличие от предметов и явлений объективной действительности, которые принято называть референтами [16]. С. Влахов и С. Флорин также обозначают реалией «только лексическую (или фразеологическую единицу, а не обозначаемый ею объект (референт) [9. С. 21-22]. Наиболее широко трактует понятие реалии М.Л. Вайсбург, включая в него и «множество разрозненных фактов, не поддающихся классификации [17. С. 98].
Реалии имеются практически в каждом языке – это наименования для референтов из различных областей человеческой жизни: общественно-политическое устройство общества, его культура, история, традиции и обычаи, система производства и образования, быт и т.п. Они не свойственны практическому опыту людей, говорящих на других языках, поэтому обозначающие их слова относят к классу безэквивалентной лексики. Однако безэквивалентность не является различительным признаком реалий. Во-первых, немало слов и фразеологических единиц, обозначающие общечеловеческие понятия, не имеют эквивалентов в другом языке. Это так называемые лакуны типа toddler ‘ребенок, который учится ходить ’, to paint the town red ‘предаваться веселью, устраивать шумную попойку’. Во-вторых, благодаря соприкосновению культур многие реалии уже приобрели стабильные эквиваленты в принимающем языке. В наш лексикон вошли такие слова и словосочетания как сенатор, лейборист, крикет, бойскаут и т.д. Другие вошли в нашу жизнь вместе с самими понятиями: маркетинг, рэкет, спонсор, гамбургер, рейтинг, блейзер и др. К безэквивалентной лексике реалии относят потому, что на начальном этапе знакомства с ними у них нет эквивалентов в языке перевода (ЯП). Именно переводчик представляет впервые реалию иноязычной аудитории, и от того, как он это сделает, во многом зависит судьба реалии в принимающем языке. Реалии проходят на своем пути вхождения в ЯП три этапа:
-
1. Этап максимальной «иностранности» реалии, когда языковая единица исходного языка (ИЯ) представлена в ЯП в полном иноязычном виде.
-
2. Первичная приблизительная транскрипция.
-
3. Полная ассимиляция реалии в принимающем языке, признаком чего служат, во-первых, включение такой единицы в базовый словарь языка ( мотель, ноу-хау, хот-дог ), во-вторых, заимствованные реалии приобретают формальные признаки грамматических категорий данного языка и способность изменяться в зависимости от роли в предложении и, в-третьих, ее способность к репродукции: например, слово хиппи, которое еще недостаточно обрусело (осталось несклоняемым), но от него отпочковался целый ряд производных: глаголы хиппую, захипповать , наречие хиппово, прилагательный хипповатый.
Понятие «перевод реалий», как считают С. Влахов и С. Флорин, дважды условно: «реалия, как правило, непереводима (в словарном порядке) и, опять-таки, как правило, она передается (в контексте) обычно не путем перевода» [9. C. 94]. При переводе реалии сталкиваются с двумя трудностями: 1) отсутствие в ПЯ соответствия (эквивалента, аналога) из-за отсутствия у носителей данного языка обозначаемого реалией объекта (референта) и 2) необходимость, наряду с предметным значением (семантикой) реалии, передать и колорит (коннотацию) – ее национальную и историческую окраску» [9. C. 94].
Переводчик не всегда может адекватно передать все особенности реалий, обращаясь к его значению. Тогда появляется необходимость обращения к базовому –концептуальному – уровню воплощаемой информации. Это часто встречается при переводе реалий - единиц измерения (finger, quart, glass, inch, yard и т.п.). Приведем примеры:
-
1. He poured out three fingers of whisky [18. P. 537].- Он налил рюмку виски.
-
2. He drank a small coffee and two fingers of gin. – Он выпил кофе и проглотил рюмку джина.
Англо-английский словарь [18. P. 537] дает следующее значение слова finger: a finger of a strong alcoholic drink is an amount of it which when it is in a glass, is the same size as the width of a person’s finger.
С точки зрения прагматического фактора необходимо адаптировать ПТ для лучшего восприятия русскоязычного читателя, а именно непонятную английскую единицу меры заменяем понятной. Для этого ищем соответствие этой меры в «Таблице перевода англоамериканских единиц измерения в метрическую систему»: количественное выражение одного finger определяется как ¾ дюйма или 1,9 см. (an inch – линейная мера ‘дюйм’, равный 2,54 см.) [19. С.885-886]. Понятно, что буквальный вариант перевода явно не удовлетворяет переводчика: ‘Он налил виски около трех пальцев’ или ‘Он налил виски в рюмку высотой 5,7 см’.
Появляется необходимость обращения к реальной ситуации в мире, то есть к базовому концептуальному уровню воплощаемой информации. Американцы пьют спиртное маленькими порциями, отсюда появляются one/two/three fingers of gin or whisky. Отсюда появляется адаптированный вариант перевода: 1а. Он налил рюмку виски; 2а. Он выпил кофе и проглотил рюмку джина.
Несколько иной ход рассуждений появляется при переводе другого примера:
-
1. Bring us a quart of champagne . –Подай нам бутылку шампанского.
-
2. … agreeing to return in half an hour with a quart of whisky . - … и пообещал вернуться через полчаса с графином виски.
-
3. He is a notch above the others [18. P.8]. – Он значительно выше других.
-
4. … a green baize door was open about two inches . – … дверь, обитая зеленым сукном, была слегка приоткрыта .
-
5. The green door closed, and then opened again – a bare half inch this time. – Зеленая дверь затворилась, затем приотворилась снова – совсем чуть-чуть на этот раз.
В исходном тексте американского автора описывается американский стиль жизни. Американская ‘кварта’ равна 0,945 см и отличается от английской ‘кварты’ 1,14 л (прагматическое основание). Но так как в переводе на русский язык, очевидно, нецелесообразно оставлять непонятное для русского читателя название емкости для спиртного ‘кварта’, идем по пу- ти определения того, с какими емкостями обычно в русской культуре ассоциируются спиртные напитки. Шампанское всегда ассоциируется с бутылкой и фужером, а крепкие алкогольные напитки, как водка – виски, джин – с графином и рюмкой.
Также при переводе названий единиц мер длины и объема выявляется еще одно очевидное различие в восприятии мира носителями английской и русской культур. Это различие касается степени точного или приблизительного выражения количества в языке. Приведем примеры:
Исходные примеры наглядно показывают, что англоязычная когнитивная традиция тяготеет к более точному восприятию, категоризации, концептуализации и вербализации количества в языке, в то время как русская когнитивная традиция склонна к приблизительному описанию количества чего-то (аппроксимация), если это не является существенной информацией. Еще одним основанием для упомянутого варианта перевода является прагматический фактор: не для всех русскоязычных читателей является знакомым понятие ‘дюйм’. Поэтому при переводе используется прием генерализации (расширения значения).
Таким образом, на примере перевода реалий мы показали, как каждый язык формулирует, организует свой мир по-своему, также по-своему вербализует (артикулирует) знания о мире. Поэтому для достижения полной адекватности перевода необходимо принимать во внимание многие факторы: семантический, прагматический, когнитивный и культурологический.