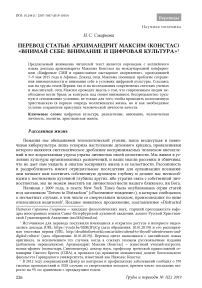Перевод статьи: архимандрит Максим (Констас) "Внимай себе: внимание и цифровая культура"
Автор: Смирнова Наталья Сергеевна
Журнал: Труды и переводы @proceedings-and-translations
Рубрика: Научная полемика
Статья в выпуске: 1 (2), 2019 года.
Бесплатный доступ
Предлагаемый вниманию читателей текст является переводом с английского языка доклада архимандрита Максима Констаса на международной конференции «Цифровые СМИ и православное пастырское окормление», проходившей 7-9 мая 2015 года в Афинах. Доклад отца Максима посвящен проблеме сохранения внимательности и внимания себе в условиях цифровой культуры. Ссылаясь как на труды отцов Церкви, так и на исследования современных светских ученых и мыслителей, отец Максим проводит мысль о том, что современным людям необходимо вести брань за контроль над своим вниманием, беспрецедентно трудную в сегодняшних условиях, не только для того, чтобы проводить полноценную христианскую (в первую очередь молитвенную) жизнь, но и как необходимое условие сохранения присущих человеческой личности качеств.
Цифровая культура, развлечение, внимание, человеческая личность, молитва, христианская жизнь
Короткий адрес: https://sciup.org/140294133
IDR: 140294133 | DOI: 10.24411/2587-7607-2019-10014
Текст научной статьи Перевод статьи: архимандрит Максим (Констас) "Внимай себе: внимание и цифровая культура"
Рассеянная жизнь
Поманив нас обещаниями технологической утопии, наша вездесущая и навязчивая киберкультура лишь ускорила наступление духовного кризиса, проявлениями которого являются систематическое дробление воспринимаемых человеком впечатлений и все возрастающая угроза утраты личностью своей целостности. Мы живем в условиях культуры организованных развлечений, и наши мысли рассеяны и сбивчивы, что не дает нам увидеть и опытно воспринять жизнь в ее целостности. рассеянность и раздробленность имеют отрицательные последствия для организации познания: они мешают нам постигать собственную духовную глубину и делают нас неспособными к постижению духовной глубины других, ибо утратив связь с собственной лич-ностностью, мы не можем вместить ни личностностности нашего ближнего, ни Бога.
начиная с 2009 года, в газете New York Times была опубликована серия статей под заголовком “Driven to Distraction” («рассеянное вождение»), в которых сообщалось о несчастных случаях, в том числе со смертельным исходом, произошедших по вине отвлекшихся водителей2. Позднее п оявилось продолжение, озаглавленное «Distracted
Doctoring» («рассеянное врачевание»), где сообщалось о многочисленных случаях, когда хирурги во время операций совершают личные звонки, лаборанты пишут текстовые сообщения во время запуска кардио-легочных шунтирующих машин, а анестезиологи через интернет покупают авиабилеты3.
отвлекающие факторы, привнесенные на рабочие места социальными сетями, обходятся американской экономике в 650 млрд. долларов в год, поскольку для посещения социальных сетей работники прерываются каждые 10 минут, причем 41% времени они проводят в Facebook. в одних только сШа на социальные сети ежедневно тратится 12 млрд. коллективных часов. среднестатистический студент колледжа проводит как минимум 3 часа в день, посещая социальных сайты, в то время как на учебу тратит не более 2 часов в день. наряду с официальной статистикой существует и множество частных свидетельств, как, например, сообщение о сентябрьском происшествии 2013 года, когда пассажиры поезда в сан-франциско были настолько отвлечены своими смартфонами и планшетами, что не обратили никакого внимания на вооруженного боевика, который в течение нескольких минут на виду у всех размахивал оружием, пока, наконец, не застрелил 20-летнего пассажира (весь эпизод был снят на камеру наблюдения в вагоне поезда).
вдобавок к финансовым издержкам и человеческим потерям, есть еще и издержки духовные, диагностика которых не входит в компетенцию газеты New York Times и американских центров по контролю и профилактике заболеваний. к таким издержкам относятся, в частности, утрата способности к человеческой деятельности, фрагментация человеческой личности и все возрастающие противоречия внутри нее. в своей недавней книге “The World Beyond Your Head” («Мир за пределами разума») Мэтью кроуфорд охарактеризовал современную ситуацию как «кризис владения собственным “я”». По его утверждению, в настоящее время мы живем в условиях «экономики, построенной на внимании», где «мы больше не владеем своим вниманием, так чтобы направлять его по своему желанию», а «усилия быть полностью вовлеченным» сопряжены с трудной борьбой. как считает кроуфорд, наша неутолимая постоянная жажда развлечений означает, что содержание самих развлечений становится по большей части безразличным, что свидетельствует о более глубоком ценностном кризисе. По словам кроуфорда, мы стали «агностиками» в отношении объектов нашего внимания, а, следовательно, мы уже не понимаем, что следует ценить4. в результате наша внутренняя жизнь становится «бесформенной», а мы сами податливыми в отношении того, что нам предлагают мощные коммерческие силы, занявшие место традиционных культурных авторитетов5. Быть внимательным — это первый шаг к утверждению своей человеческой природы, к способности действовать и определять себя как человеческие существа. Мы выбираем, на что нам обратить внимание, и наш выбор, по существу, определяет, какова для нас реальность, что в ней присутствует для нашего сознания. напротив, рассеянность и раздробленность выявляют мировоззренческую пустоту в центре нашего бытия. Эта реалистичная картина состояния человеческого ума в наше время побудила кроуфорда призвать к «этике» и «аскетике» внимания6.
в своей предыдущей работе о важности труда кроуфорд выражает сожаление по поводу утраты навыков ручного труда в условиях цифровой культуры, которая, по его мнению, отдалила людей от реальных орудий труда и от того физического мира, для которого они создавались. неудивительно, что в его понимании «этика»
и «аскетика» внимания также предполагают занятие тем или иным ремеслом, требующим от мастера направленных усилий и внимания, а значит и полной отдачи, в преодолении объективной реальности.
Быть внимательным не желая умалить важности квалифицированного ручного труда (который на святой Горе практикуется и поддерживается на протяжении всей ее долгой истории), я хотел бы сосредоточиться на предыдущем тезисе, касающемся «внимания» как такового, вне зависимости от того, для какой деятельности оно могло бы быть сочтено необходимым или полезным. как будет видно, внимание предлагает нам основательную и действенную реакцию на нашу современную культуру развлечений. По сути, та «этика и аскетика внимания», к которой предлагает прибегнуть кроуфорд, есть не что иное, как занимающая центральное место в православной антропологии и нравственной психологии практика «внимательности» (προσοχή) или «внимания себе» (προσέχειν σεαυτῷ)7.
слова о внимании себе, лишь отдаленно напоминающие сократовское предписание «познать себя» (γνῶθι σαυτόν)8, встречаются в различных вариантах в новом завете, но их источником является втор 4:9: Вонми себе и снабди душу свою зело (πρόσεχε σεαυτῷ καὶ φύλαξον τὴν ψυχὴν σου σφόδρα) или втор 15:9: Внемли себе: да не будет слово тайно в сердцы твоем беззакония (πρόσεχε σεαυτῷ µὴ γένηται ῥῆµα κρυπτὸν ἐν τῇ καρδίᾳ σου ἀνόµηµα)9. Это изречение, будучи нравственным императивом, имеет долгую и богатую историю, из которой здесь приведем лишь несколько примеров.
в житии прп. антония великого, составленном в 4 веке, сообщается, что первое аскетическое делание антония перед удалением в пустыню состояло в том, чтобы «внимать себе»10. а младшим современником антония, свт. василием кесарийским, написана, вероятно, первая проповедь, посвященная исключительно словам из втор 15:9 («на слова внемли себе»)11. и если житие прп. антония не содержит подробностей практики внимания, то свт. василий великий предлагает пространное ее описание. в отличие от чисто стороннего «самонаблюдения» или солипсического «самоуглубления», «внимание» по своему охвату всеобъемлюще, будучи одновременно: (1) пробуждением разумных начал, помещенных Богом в душе; (2) бдительным контролем над движениями ума, которые управляют движениями тела и общества в целом; (3) осознанием приоритета ума (или души) над телом, и божественной красоты над чувственными удовольствиями; (4) взаимодействие с реальностью и отказ от мечтаний ума; (5) самоанализ и невмешательство в дела других; и, не в последнюю очередь, (6) познание Бога — в той мере, в какой личность является образом Божиим; словами о связи самопознания с богопознанием василий завершает свою проповедь: «итак, внемли себе, чтобы внимать Богу» (πρόσεχε οὖν σεαυτῷ, ἵνα προσέχῃς Θεῷ)12.
Практика внимания себе, прочно утвердившаяся к четвертому веку, заняла центральное место в православной антропологии и этике. Последующие поколения духовных писателей и подвижников развили учение о внимании, в большинстве случаев соотнося его с сопутствующими деланиями, такими как «безмолвие» (ἡσυχία) и «трезвение» (νῆψις)13. в таком расширенном понимании, предложенном уже свят. василием великим, вниманию была отведена основополагающая роль в христианской жизни, и оно, в конечном итоге, стало считаться необходимой предпосылкой и необходимым условием спасения14.
тот факт, что упор сделан именно на внимании, объясняется не только склонностью человеческого ума к рассеянности, но и тем, что процесс утраты целостности нашей внутренней жизни начался именно с момента грехопадения, когда человечество отделило себя от Бога. с этих позиций «рассеянность» справедливо названа «первородным грехом ума».
Понимание прародительского преслушания как падения из состояния внимательности в состояние рассеянности является центральным в богословии отца 5 века, блж. диадоха фотикийского: «Божественное знание научает нас тому, что наша естественная познавательная способность является единой, однако вследствие адамова преслушания она разделилась на два различных вида деятельности»15. Человек был создан с единым, простым и неразделенным сознанием, однако падение нарушило целостность личности, которая с тех пор разрывается двумя противоборствующими действиями, одно из которых направлено в область божественной реальности, а другое влечется вовне, к поверхностным впечатлениям видимого мира, получаемым посредством чувственного восприятия, и подвергается непрерывной фрагментации.
Похожие взгляды находим и в творениях св. Григория синаита (+1346). По мысли святого отца, человеческий ум, сотворенный в состоянии покоя, пришел в состояние беспокойства и рассеянности после отпадения от благодати, отдав предпочтение плотскому чувству перед Богом, в результате чего заблудился и стал вращаться посреди вещей мира16. святитель Григорий Палама, возможно, имея в виду учение св. Григория синаита, говорит: «один великий учитель сказал, что после падения наше внутреннее бытие естественным образом подстраивается под внешние формы» и призывает читателя «внимать себе», прямо цитируя второзаконие 15:917.
забыв о Боге и цепляясь за мир, мы подпадаем под власть нездоровых желаний и привязанностей, которые приводятся в движение нашей нескончаемой погоней за пустотой. Плененные поверхностными впечатлениями от вещей, мы не имеем представления об их глубинных смыслах и взаимосвязях, но нацелены лишь на ту часть предмета или человека, которая может удовлетворить наше стремление к временным удовольствиям. Привыкнув подчиняться нашим неразумным побуждениям и импульсам, ум порабощается ощущениями (телесными или душевными); мы распадаемся на отдельные фрагменты и ведем двойную и тройную жизнь, будучи разделенными в самих себе на бесчисленное множество не связанных между собой действий, так что наша погоня за удовольствиями не только не способствует единству нашей личности и мира в целом, но ведет к дезинтеграции и дезорганизации обоих. Будучи раздробленным на разобщенные проявления неразумной чувственности, ум получает лишь мимолетные впечатления от чего-то конечного и изолированного от всего остального18.
Это состояние было выявлено и описано православными духовными писателями и подвижниками, которые назвали его «рассеиванием» или «рассредоточением» ума. например, никита стифат, ученик св. симеона нового Богослова, утверждает, что «в какой мере наша внутренняя жизнь находится в состоянии расстройства и рассредоточена среди множества несовместимых вещей, в той мере мы не в состоянии участвовать в жизни Бога. Мы желаем противоположных и несовместимых вещей, нас раздирает на части непримиримая борьба между ними, что и называется «расстройством» ума — состоянием, которое лишает душу единства и разрушает ее. Пока мы находимся во власти своих разрозненных мыслей, пока нами управляют связавшие нас страсти, наша личность остается раздробленной, а мы сами отрезанными от божественного единства»19.
однако, хотя дилемма раздробленности и дезинтеграции личности разрешается именно посредством внимания, все же не возврат к предполагаемому райскому состоянию сознания поставляется целью, а возврат к благодати духа святого, вложенной в наши сердца во время крещения. Этот акцент на таинстве занимает центральное место в богословии диадоха, по мысли которого исцеление начинается с дара духа святого, а раздвоенность падшего естества приводится в единство молитвенным призыванием имени иисусова20. таким образом, исходным побуждением к практике внутреннего внимания, целью обращения внутрь себя и вхождения в свое сердце является обретение пребывающей там благодати святого духа. такое понимание было неоднократно, последовательно и систематически, подтверждено более поздними византийскими исихастами21.
в сущности, то же учение мы находим и в Писании. Блудный сын покинул свой дом и ушел на страну далече, где, как говорится в евангелии, он «расточил» (или «рассеял») свое «имение» (διεσκόρπισεν τὴν οὐσίαν αὐτοῦ) (Лк 15:13). на одном уровне понимания это означает, что он растратил все свои деньги, но более глубокий смысл здесь — богатство души, наше духовное наследие, поскольку наше «имение» — это тот дух, который Бог поместил в нас, и в котором он через святое крещение насадил свою собственную благодать, одевая нас в «нашу первую одежду славы» (ср. Лк 15:22) и «посылая духа своего в сердца наши» (Гал 4:6). но, отторгая себя от этой благодати, мы утрачиваем свое духовное единство и приходим в состояние раздробленности.
Заключение
Падший человеческий ум раздроблен, склонен к постоянным отвлечениям, рассеян по мятущейся бесконечности бессвязных мыслей и ощущений. наш ум все время не там, где наше тело. но вместо того, чтобы трудиться над преодолением этого существенного недостатка, мы выстроили культуру, основанную на развлечениях, тем самым поощряя ум оставаться в своем падшем состоянии. Можно сказать, что и сам компьютер — это падший ум, мощное расширение наших собственных сомнительных желаний, сотворенное по образу нашему. влача нераскаянное существование в мире иллюзий, зачарованные мелькающими на экранах наших компьютеров картинками, мы становимся «тупыми, хищными мухами, жужжащими у стекла»22 — компьютерного экрана, отчаянно желающими потребить всю тщету мира.
но нет, мы не хищники, мы добыча. не мы являемся пользователями информационных технологий и социальных сетей, а они нас используют, нами манипулируют, нас эксплуатируют. в нашей культуре развлечений общественные и частные пространства напичканы техникой, сконструированной с целью привлекать и удерживать наше внимание, а наша внутренняя жизнь, как и тело, — не более чем сырьевой материал, используемый для обслуживания экономических интересов сильных мира сего, так что, по словам кроуфорда, склонность ума к развлечениям — то же, что ожирение для тела. итак, мы должны обратить внимание не только на технологии и цифровую культуру, но и на те интересы и побуждения, которые вдохновляют их разработку и способствуют их распространению во всех сферах нашей жизни.
на протяжении своей долгой истории христианство подчас оказывалось в подчиненном положении у господствующей политической или экономической системы, и при этом как будто забывалось о том, что евангелие не является порождением человеческой культуры, но само порождает новый образ жизни. нам нужно восстановить авторитет евангелия как контркультурной силы, не для дестабилизации общества, а для порождения жизнеспособных сообществ. нам нужно вновь открыть для себя, что наша вера и призвание не просто отделяют нас от мира, но что ими порождается новый, альтернативный мир; не мнимый мир виртуальной реальности, а реальный мир добродетелей23.
Чтобы осознать наше призвание, мы должны сделать внимание своей основополагающей мировоззренческой установкой. Без внимания нет молитвы, а без молитвы нет общения с Богом, нет участия в божественной жизни. Практика внутреннего внимания, схождения умом в сердце, есть одновременно и делание, и образ жизни, который помещает нас в сферу подлинного бытия, устанавливая нашу связь с Богом. вот почему внимание часто приравнивается к памятованию о Боге, к осознанному ощущению обитающей в нас благодати святого духа. внимание себе есть наиболее эффективный способ отвоевать себе право на самоопределение у тех, кто хочет отнять его у нас. Преображенное благодатью, внимание будет открывать для себя новые объекты, поскольку его источником станет новый субъект, не сообразующийся более с веком сим, но преображенный обновлением ума своего (рим 12:2), обладающий и обладаемый умом христовым (ср. 1кор 2:16).
Natalya Smirnova. Translation from English: “Attend to Thyself: Attentiveness and Digital Culture” by Fr. Maximos Constas.