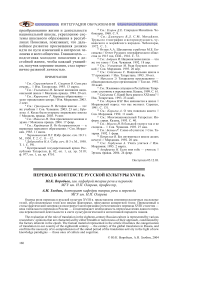Перевод в контексте русской культуры XVIII в
Автор: Воробьев Ю.К., Злобин А.Н.
Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu
Рубрика: Образование и культура
Статья в выпуске: 1 (34), 2004 года.
Бесплатный доступ
Оценка роли перевода в русской культуре XVIII в. представлена мнениями различных исследователей, обусловленными теми или иными факторами, присущими конкретной эпохе. Приведенный в статье фактический материал иллюстрирует категоризацию отечественного перевода XVIII столетия — века глобального перевода в России — и подтверждает необходимость переосмысления данного периода переводческой деятельности в свете культурологической и когнитивной парадигм знания.
Короткий адрес: https://sciup.org/147135839
IDR: 147135839
Текст научной статьи Перевод в контексте русской культуры XVIII в
Вместе с тем следует подчеркнуть, что XVIII в. в России — это век глобального перевода, когда с западноевропейских языков на русский переводились тексты, касающиеся буквально всех сфер жизни. Ортодоксальная патриархальность XVII в. не давала развиваться светским формам общения, и то, что произошло в России в период царствования Петра I можно с точки зрения филологии назвать интеллектуальной революцией.
Благодаря переводам мы сблизились с Европой по многим параметрам. Например, в сфере науки была заимствова на европейская система типов научных текстов. Российская наука восприняла и практически освоила такие письменные речевые жанры, как статья, диссертация, специмен (тип научного отчета), монография, журнал научных наблюдений, рецензия, аннотация. Соответственно были восприняты и введены в практику устные речевые жанры: лекции, семинары, диспуты и т.д.
Как известно, Петербургская Академия наук была открыта в 1725 г., через несколько месяцев после смерти Петра I. Царь-западник не смог увидеть того, к чему он стремился всю жизнь. Формально академия была открыта после его смерти, а фактически именно им. Нам представляется, что наука — это прежде всего текст. В начале XVIII в. русский язык, благодаря переводам прежде всего научных текстов, стал восприниматься не только как язык веры, но и как язык разума, т.е. он получил широкую гносеологическую функцию. Это резко повысило его статус как языка науки. Отметим, что при Петре I резко выросло и число переводов технической литературы по разным направлениям инженерного дела. К подобным переводам приложил руку и отец полководца А.В. Суворова В.И. Суворов. В 1724 г. был напечатан его перевод книги С. Вобана «Истинный способ укрепления городов».
Конечно, русское правительство пыталось регулировать переводческую деятельность и после Петра I, и не только в сфере науки. В 1748 г. президент Академии наук К.Г. Разумовский получил устный (как зафиксировано в материалах академии) указ императрицы Елизаветы Петровны о переводе на русский язык книг различного содержания, «в которых бы польза и забава соединены были с пристойным к светскому житию нравоучением»5. Это был своего рода государственный заказ на перевод в первую очередь с французского и немецкого языков морализаторской, воспитательной и развлекательной литературы. Последовавший перевод трактатов по воспитанию, по правильному поведению, т.е. перенос на российскую почву европейских норм речевого поведения, также способство- вал повышению статуса русского языка. Именно благодаря переводам расширялась и дифференцировалась в значениях семантика русских слов. На русском языке стало возможным обсуждать устно и письменно вопросы морали. Таким образом, русский язык обогатил и расширил свою нравоучительную функцию. Разумеется, эта функция была у него и раньше, но именно в XVIII в. она приобрела европеизированные формы. Мы стали понятнее европейцам, а они, соответственно, стали понятнее нам.
Кроме того, посредством переводов русский язык расширил и свою образовательную функцию. Систематический перевод с западноевропейских языков научно-технических текстов повлек за собой и перевод учебной литературы по всем отраслям знаний: учебников и учебных пособий по иностранным языкам и другим общеобразовательным и специальным дисциплинам. Необычайно высока была роль перевода как способа обучения иностранному языку. Знаток того периода П.В. Знаменский писал: «.. .в изучении латинского языка имел значение, впрочем, не столько учебник грамматики, сколько постоянные (курсив наш. — Лет.) упражнения... в переводах. В низших классах семинарий больше переводили на русский язык, а в высших — на латынь». Эта же «метода» доминировала и в светских учебных заведениях6.
Обратимся теперь к уже упоминавшемуся выше художественному переводу, т.е. к переводу текстов изящной словесности. В 1750 г. воспитанники сухопутного шляхетского кадетского корпуса организовали между собой общество любителей российской словесности, где кадеты читали друг другу свои сочинения и переводы. За пятнадцать лет до этого, в 1735 г., при Академии наук было учреждено так называемое Российское собрание. Оно имело целью усовершенствовать русский язык, в частности посредством переводческой деятельности.
В период с 1768 по 1783 г. трудилось учрежденное Екатериной Собрание старающихся о переводе иностранных книг. Таких книг было более 100. Вышедшая в 1913 г. работа Семенникова, где дана лишь общая оценка труда данного собрания, давно является библиографической редкостью.
В 80-х гг. XVIII в. при Московском университете, где практически все российские профессора занимались переводами, были созданы педагогическая и переводческая семинарии, о деятельности которых нам пока мало что известно7. В 1783 г. число учеников обеих семинарий доходило до пятидесяти8.
Нельзя не сказать и о периодике. На Западе газеты в их современном понимании появились в XVI в. У нас переводные подборки, в основном из немецких и французских газет, стали регулярными с начала царствования Романовых. Во второй половине XVII в. с созданием регулярной почтовой службы в Россию стали поступать газеты приблизительно 200 наименований. Все они требовали перевода. Этим сначала занимался Посольский приказ, а затем Коллегия иностранных дел. Через данные ведомства проходила в первую очередь литература по международным отношениям, публицистика, дипломатическая переписка, манифесты и грамоты западных государей.
При Петре к переводам привлекались и государственные деятели. Среди них — А. Виниус, Ф. Лефорт, П. Шафиров, братья Зотовы, Ф. Прокопович. Перевод научно-технической литературы был в то время ответственнейшим государственным заказом. Русский дипломат П.В. Постников, выполняя в Париже обязанности неофициального дипломатического агента, приобретал для отправки в Россию книги «по всем отраслям знания» именно с целью их перевода9.
В 1707 г. Петр I пишет Ф.М. Апраксину: «При сем посланы к вам две книги на Латынском языке, которые изволь послать в Новгород к старцам Лихудывым, чтоб они перевели на Словенский язык»10. Приведенные факты подтверждают, что Петр I не просто поощрял переводческую деятельность, но и руководил ею. К нему на просмотр после публикования поступали все переводы. Редактура переводов, от которой во многом зависело формирование речевой нормы для каждого жанра, часто поручалась одному из самых просвещенных сподвижников царя Якову Брюсу.
В 1782 г. была создана Комиссия об учреждении народных училищ, которая энергично занялась переводами учебной литературы. В ее составе был образован особый комитет под председательством одного из статс-секретарей Екатерины II, занимавшийся, в частности, экспертизой переводов (курсив наш. — Лет.) учебной литературы для народных училищ11. Кстати, из 16 статс-секретарей императрицы 15 занимались литературным творчеством и переводами12. Сама Екатерина ежегодно отпускала 5 тыс. руб. своих собственных средств на перевод произведений классических писателей. В 1767 г. она и члены свиты во время путешествия по Волге занимались переводом «Велизария» Мармонтеля. По жребию лично Екатерине досталась девятая глава, где говорилось о заблуждениях верховной власти13.
Таким образом, во второй половине XVIII в. в России складывается новая конфигурация человеческих достоинств и заслуг. Литературные заслуги, в том числе и переводческие, начинают цениться так же высоко, как и государственные.
Вместе с тем мы еще мало что знаем о количестве и функциях переводчиков, которые трудились в системе гражданского и военного управления. Во всех канцеляриях как Сената, так и коллегий были переводчики. По штату 1722 г. даже в Синоде их было 6. В архивах находится огромное количество деловой переписки и документов разных жанров, составленных на французском и немецком языках. При Анне Иоанновне в императорском кабинете было «много работы по переводу с русского языка на французский, немецкий, польский, латинский и обратно»14. По положению о городах (1785 г.) гражданские права иностранцев, проживавших в России, обеспечивались тем, что там, где их было 500 и более, им разрешалось вести делопроизводство на родном языке. Следовательно, эти документы переводились на русский язык.
Каков же был статус переводчиков в России? По Табели о рангах (1722 г.) переводчики Военной, Адмиралтейской и Иностранной коллегий состояли в 10-м классе, что предполагало получение личного дворянства. Сенатские состояли еще выше — в 9-м классе, к которому относились и профессора при академиях.
Анализ примеров показывает, что переводческая деятельность в России была многомерной и разнонаправленной. Огромное количество текстов разных жанров переводились на западноевропейские языки. Научная продукция Петербургской Академии наук — на латынь и частично на немецкий и французский. На эти же языки в первую очередь переводилась апологетическая литература, которая оправдывала российскую внешнюю политику. Усилиями Петра Шафурова в 1717 г. на немецком языке появились так называемые «Рассуждения...», в которых оправдывалась Северная война. В 1718 г. на несколько языков сразу было переведено судебное дело царевича Алексея. На французском, немецком и латинском был воспроизведен «Наказ» Екатерины II, благодаря чему он стал известен всей Европе. Специально для Вольтера переводили российские законы, когда он писал историю Петра Великого. В 1798 г. на французский язык были переведены воинские уставы для пехоты и кавалерии. Российская гвардия была обязана знать французский. Знание этого языка было своего рода допуском в гвардию.
Иногда российским переводчикам приходилось переводить с английского языка на французский, с немецкого на французский, с разных языков на латинский. В 1752 г. Г.В. Козицкий перевел с новогреческого на латинский сочинение «Камень соблазна». Все это свидетельствует о высокой квалификации российских переводчиков.
Таким образом, в течение XVIII в. формирование русскоязычной конфигурации родов и видов словесности было во многом обязано такому культурообразующему виду деятельности, как перевод. С помощью переводов произошло усвоение российской интеллигенцией европейских норм жизни и мы стали ощущать себя европейцами. Перевод есть эпицентр межкультурной коммуникации, его изучение в историко-культурологическом аспекте способствует гармонизации отечественной переводческой картины мира.
В заключение отметим, что представленный фактический материал, иллюстрирующий категоризацию отечественного перевода XVIII столетия, подтверждает необходимость переосмысления данного периода переводческой деятельности в свете новых парадигм знания — культурологической и когнитивной, исследования самого процесса концептуализации и категоризации перевода и формирования его как культурного концепта.