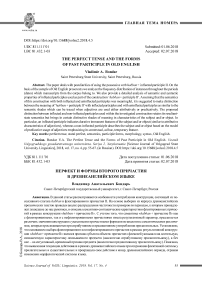Перфект и формы второго причастия в древнеанглийском языке
Автор: Бондарь Владимир Анатольевич
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Главная тема номера
Статья в выпуске: 4 т.17, 2018 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассматриваются особенности употребления конструкции, состоящей из посессивного глагола habban и флектированного причастия II. На основе выборки из корпуса древнеанглийских прозаических текстов проведен анализ распределения частотности примеров по периодам, к которым принадлежат дошедшие до нас рукописи, и описаны семантико-синтаксические характеристики флектированных причастий в рамках конструкции «habban + причастие II». С учетом того, что семантика «habban + причастие II» как с флектированными, так и с нефлектированными причастиями имела результативный характер, предлагается различать значения конструкции с указанными причастными формами по аналогии с семантическими различиями, которые прослеживаются при атрибутивном и предикативном употреблении прилагательных. Установлено, что основанием выбора флектированного или нефлектированного причастия в рамках результативной конструкции «habban + причастие II» являлся признак субъекта-объекта: причастие с флексией указывало на длительную, имманентную характеристику описываемого предмета (аналогично атрибутивному прилагательному), а без нее - на ситуативный, временный признак предмета (аналогично предикативному прилагательному). Показано, что выявленная тенденция действовала в рамках древнеанглийского языка при сохранении флективной системы у прилагательных и существительных и прекращала свое действие к концу древнеанглийского периода, отражая изменения морфологической системы языка.
Перфект, результатив, семантика, причастные формы, морфология, синтаксис, древнеанглийский язык
Короткий адрес: https://sciup.org/149129937
IDR: 149129937 | УДК: 811.111’0 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2018.4.5
Текст научной статьи Перфект и формы второго причастия в древнеанглийском языке
DOI:
Цитирование. Бондарь В. А. Перфект и формы второго причастия в древнеанглийском языке // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. – 2018. – Т. 17, № 4. – С. 55–67. – DOI:
Вводные замечания
В истории развития перфекта в английском языке не вызывает сомнений тот факт, что его источником послужило сочетание посессивного глагола habban (иметь) со вторым причастием от переходных глаголов. При этом последнее согласовывалось с прямым дополнением по роду, числу и падежу, что являлось одним из бесспорных доказательств отсутствия грамматикализации посессивного глагола на ранних этапах развития английского языка и статуса конструкции « habban + причастие II» как относительно свободного сочетания. Проблемы в интерпретации конструкции возникают, когда наряду с флектиро-ванной формой причастия употребляется не-флектированный вариант:
-
(1) þa hæfde he me gebundenne mid þære wynsumnesse his sanges... (Bo:22.50.8.913) – ‘тогда он меня сковал (досл. ‘имел меня скованным’) прелестью своего пения...’;
-
(2) Darius hæfde gebunden his agene mægas mid gyldenre racentan (Or3:9.70.7.1374) – ‘Дарий связал (досл. ‘имел связанными’) своих собственных сородичей золотыми цепями’.
Так, Дж. Ласски предлагает рассматривать случаи, аналогичные (1), как неграммати-кализированный результатив с адъективным причастием, а случаи, аналогичные (2), – как полноправный перфект с глагольным причастием [Lussky, 1922, p. 39]. Заранее отметим вполне справедливое замечание исследователя: если в древнеанглийском никакого различия, кроме как риторического (мелодика предложения, поэтическая вольность), между двумя формами причастий в анализируемой конструкции не было, то почему такой свободой не пользовались прилагательные [Lussky, 1922, p. 39]?
Однако, как показал на различных примерах Б. Митчелл, такой подход противоречит фактическому материалу: в практически одинаковых контекстах встречаются примеры с одной и той же глагольной лексемой, но в разных причастных формах. Кроме того, в одной синтагме с двумя причастиями, соединенными союзом and (и), используются одновременно флектированная и нефлектирован-ная формы [Mitchell, 1985, p. 283–285]. Казалось бы, интуитивно верное разграничение функционально-семантических характеристик двух форм второго причастия в конструкции с посессивным глаголом, предложенное Дж. Лас-ски, в действительности оказывается неправильным: сложно представить, что перфект и результатив могут употребляться в контекстах с однородными причастиями.
Удивительно, но данное противоречие специалисты по истории английского перфекта старательно обходили стороной, по умолчанию полагая, что примеры с флектированной формой, по крайней мере, на ранних этапах развития английского языка не могли быть чем-то иным, кроме как результативом. В фундаментальном труде по истории английского языка «The Cambridge history of the English language» в разделе, посвященном синтаксису, Э. Трау-готт аккуратно касается данной темы (по ее мнению, трансформация конструкции с habban в вербальный комплекс была частично завершена в древнеанглийском), высказывая предположения о возможных причинах отпадения флексий в причастиях: сначала такие изменения могли произойти в конструкциях с дополнениями в ср. р. ед. ч., имевшими нулевое окончание, а потом распространились и на остальные контексты [Traugott, 1992, p. 192–193]. Тем не менее без ответа остается вопрос о том, как рассматривать на синхроническом уровне в дошедших до нас древнеанглийских текстах соотношение контекстов с разными формами причастий.
Анализируя развитие конструкции с посессивным глаголом в германских языках, О.А. Смирницкая различает внутри нее две формы синтаксической связи: атрибутивную и предикативную, а древнейшим прототипом конструкции, по ее мнению, «следует считать именно многозначную конструкцию с преди- кативно-атрибутивной формой связи» [Смир-ницкая, 1965, c. 7]. В ходе анализа древнеанглийского материала автор приходит к выводу о том, что противопоставление по атрибутивности и предикативности играло второстепенную роль в развитии перфекта. Отсутствие флектированных форм причастий едва ли можно рассматривать как прямое доказательство синтаксической неразложимости анализируемой конструкции, а «потеря причастием флексии свидетельствует лишь о возникновении новых синтаксических связей внутри сочетаний “habban + причастие II”» [Смирницкая, 1965, p. 12].
В последнее время в работах по истории английского перфекта исследователи отстаивают точку зрения, в соответствии с которой в древнеанглийском широко развит перфект, а момент перехода результатива (формы с флек-тированным причастием) в эту форму необходимо относить к дописьменному периоду [Johannsen, 2016; Lee, 2004; Łęcki, 2010; Wischer, 2004]. В рамках данной концепции с довольно радикальным предложением выступила И. Вишер, которая считает, что флексии причастий, входивших в эту конструкцию, не играли никакой роли, то есть семантических различий между двумя типами конструкций не было. В защиту своего тезиса автор приводит следующие аргументы: превалирование нефлектиро-ванных форм (в корпусе И. Вишер лишь в 10 % контекстов представлены флектированные причастия); наличие примеров, в которых за объектом следуют причастия в двух разных формах; аналогическое расширение окончания м. р., вин. п., мн. ч. (- е ) на ср. р., мн. ч., где должно быть нулевое окончание: [WHom_20.3:30.1766] & we habbađ Godes hus inne & ute clæne berypte – ‘мы полностью осквернили дома Бога внутри и снаружи’ (здесь и далее перевод примеров наш. – В. Б. ); наличие адъективного окончания в контекстах с динамическим прочтением конструкции: [BlHom 2]:15.24.201] þin agen geleafa þe hæfþ gehæledne – ‘твоя собственная вера тебя излечила’; отсутствие окончания у явно адъективных причастий: ÆLet 1 (Wulfsige X a) B1.8.1 [0098 (91)] gyf he ænigne gylt ungebet hæfð – ‘если у него есть неискупленный грех’. Подводя итог, исследователь утверждает, что наличие нефлектированных форм можно рассматривать как лишенный всякого значения осколок предыдущего состояния
(a meaningless residue of a former state) [Wischer, 2004, p. 244–246].
Отсутствие единой точки зрения по данному вопросу приводит к курьезным случаям, когда данный И. Вишер пример из гомилий Вульфстана с расхождением между требуемой и фактически употребленной флексиями причастия, другим автором рассматривается как доказательство того, что конструкция с посессивным глаголом и флектиро-ванным причастием в древнеанглийском языке не являлась перфектом: berypte имеет адъективный характер именно благодаря наличию флексии, само причастие находится в позиции после дополнения, а посессивный глагол полностью сохраняет свое лексическое значение (конструкция выдвигает на первый план оскверненное состояние домов Бога, а само действие осквернения оттесняется на задний план и логически выводится из данного состояния [Yao, 2015, p. 249]).
Материал и цели исследования
Для выявления статуса конструкции habban с флектированным причастием и характеристик ее отношения к аналогичным примерам без флектированных причастий мы проанализируем примеры, полученные методом сплошной выборки из синтаксически размеченного корпуса древнеанглийской прозы ( The York-Toronto-Helsinki Parsed Corpus of Old English Prose ). Тексты этого корпуса относятся к разным жанрам и принадлежат к одному из четырех периодов: до 850 гг., 850– 950 гг., 950–1050 гг., 1050–1150 годы. Мы не только рассмотрим синтаксические особенности (модели расположения элементов конструкции относительно друг друга), но и проанализируем семантические характеристики глаголов, используемых в формах флектирован-нных причастий. Основной задачей исследования, таким образом, является выяснение функциональных особенностей флектированных причастий в рамках конструкции « habban + причастие II», семантики конструкции, а также доказательной силы аргументов, высказанных И. Вишер.
Общее количество примеров в нашей выборке 138, что составляет 9,5 % от общего числа примеров « habban + причастие II» (1 454)
и в целом совпадает с количественными данными в выборке И. Вишер (10 %). На этих показателях основывается статистика, отражающая синтаксические характеристики конструкции и хронологическую дистрибуцию анализируемых причастий. Однако, как показано далее, этот количественный аргумент едва ли можно использовать в качестве доказательства отсутствия функциональной нагрузки у флектирован-ных причастий.
Для дальнейшего (семантического) анализа из 138 примеров мы исключили повторы глагольных лексем и контексты, где конструкция « habban + причастие II» используется с модальными глаголами, например:
-
(3) ne mihte lencg habban his handa astrehte (ÆLS [Pr Moses]:16.2878) – ‘ не мог долго держать свои руки распростертыми ’;
или выступает в качестве каузатива, например:
-
(4) he sceolde đone Godes alter habban uppan aholodne (CP [Cotton]:33.216.18.26) – ‘он должен алтарь Бога выдолбить наверху’.
(Полный обзор всех примеров habban в каузативном значении см. в [Kilpiö, 2013]). Таким образом, семантическому анализу будут подвергнуты 93 глагольные лексемы.
Хронологическая и количественная характеристики конструкции
Флектированные причастия встречаются в текстах, относящихся ко всем вышеуказанным периодам, за исключением самого раннего (до 850 гг.). В количественном отношении их распределение в нашей выборке выглядит следующим образом: период 850–950 гг. – 50 употреблений (36 %), 950–1050 гг. – 28 (20 %), 1050–1150 гг. – 60 (44 %). Приведенные данные косвенно свидетельствуют о тенденции к сокращению употребления флекти-рованных причастий в анализируемой конструкции. Так, если в текстах IX в. зафиксировано 36 % примеров, то столетие спустя – 20 %. Превалирование флектированных причастий в XI–XII вв. объясняется тем, что к данному периоду относятся тексты, которые были написаны в ранние эпохи (IX и X вв.), но дошли до нас в составе поздних рукописей, где не исключены ошибки, сделанные и в ре- зультате неправильной интерпретации, вызванной языковыми процессами, проходившими на стыке древнеанглийского и среднеанглийского периодов.
Из 93 анализируемых лексем 42 глагола (45 %) использованы исключительно в форме флектированного второго причастия, в то время как остальные 51 (55 %) зафиксированы в обеих формах. При этом из данных корпуса очевидно, что доминируют нефлектированные формы практически всех лексем. Например, распространенная в текстах 850–950 гг. лексема ge-sellan (продавать, отдавать) используется без флексии 9 раз, а во флективной форме 1 раз – в переводе «Утешение философией» Боэция:
-
(5) hi me habbađ gesealdne hiora wlencum (Bo:7.17.31.286) – ‘они меня отдали своей пышности’.
Аналогичное этому соотношение характерно и для периода 950–1050 гг.: глагол don (делать) представлен 22 нефлектированными формами и 1 флектированной формой – в тексте перевода Семикнижия:
-
(6) Bearnleasne ge habbađ me gedonne (Gen:42.36.1793) – ‘бездетным вы меня сделали ’ (досл. ‘бездетным вы имеете меня сделанным’ ).
Синтаксическая характеристика
Рассмотрим, в каком окружении употребляются флектированные формы второго причастия. При однородных причастиях, соединенных союзом and (и) используются либо 2 флектированные формы, либо сочетание флектированной и нефлектированной форм (2 нефлектированные формы – довольно распространенное явление и здесь в расчет не принимается):
-
(7) ac se anwealda hæfđ ealle his gesceafta swa mid his bridle befangene & getogene & gemanode ... (Bo:21.49.2.883) – ‘но Всемогущий все свои создания как своей уздой схватил и сдержал и поддерживал ...’;
-
(8) þu þe buten ælcere wæmmunge and buten flite us hæfest ealle ofercumene and genyđered ? (Nic [C]:313.305) – ‘ты, кто без какого-либо загрязнения и без борьбы всех нас побеждаешь и подчиняешь ? ‘ (досл. ‘ имеешь побежденными и подчиненными ’).
В нашей выборке зафиксировано 3 примера, аналогичных (8). Каждый из них относится к одному из периодов (850–950 гг., 950–1050 гг. и 1050–1150 гг.) соответственно. Взаимное расположение флектирован-ного и нефлектированного причастия может варьироваться. При этом количество случаев с двумя флектированными причастиями в 3 раза больше. Из 9 примеров 2 относятся к периоду 850–950 гг., 2 – к периоду 950–1050 гг. и 5 употреблены в текстах 1050–1150 гг. В 5 примерах перед вторым причастием используется прямое или предложное дополнение. В тех контекстах, где употребляется 2 конструкции, соединенные сочинительным союзом, в первом случае используется флектированная форма, во втором – нефлектированная. Всего обнаружено 2 таких примера, один из которых относится к периоду 850–950 гг., другой – к 950–1050 гг.:
-
(9) for đon þa feawan þe þær ut oþflugon hæfdon eft þa burg gebune , & hæfdon Thebane, Creca leode, him on fultum asponon (Or:_3:1.53.20.1025) – ‘из-за тех немногих, которые оттуда убежали, и затем овладели тем городом и на свою сторону переманили фиванцев, греческий народ’;
-
(10) and cyddon þæt þa hæþenan hæfdon hi besetene , and ofslagen hæfdon sum þusend manna (Maccabees:389.5094) – ‘и рассказали, что язычники их осадили и убили тысячу человек’.
В более широких контекстах (в рамках сложносочиненного или сложноподчиненного предложения) также фиксируется параллельное употребление флектированной и нефлек-тированной форм:
-
(11) And sona swa þæt wæs þæt hi swa gedon hæfdon , þa hæfdon hy forworhte hy sylfe.. . (WHom 6:48.273) – ‘И вскоре, как только они таким образом поступили , тогда они себя погубили ...’
Из 10 подобных (11) примеров в нашей выборке 6 относятся к периоду 1050–1150 гг. и 4 – к периоду 850–950 годов. Большинство случаев приходится на употребление согласованных флектированных причастий, в то время как совместное употребление конструкций с обеими формами причастий в рамках более широкого контекста в основном относится к позднему периоду.
Далее рассмотрим позиционные особенности флектированных причастий по отношению к другим элементам конструкции в рамках предложения. Это расположение элементов уже было описано в ряде работ. Здесь стоит упомянуть о результатах, полученных в [Mitchell, 1985; Wischer, 2004], которые мы затем сравним с нашими данными. Важно также иметь в виду, что причастие, согласованное с дополнением ср. р. ед. ч., имеет нулевую флексию. Однако, как отмечает Б. Митчелл, едва ли существует какой-нибудь смысл проводить детальное разграничение между примерами с нулевой флексией и нефлектированными причастиями [Mitchell, 1985, p. 284].
В работе исследователя выделены 6 моделей распределения элементов habban , дополнения и второго причастия. Две из них выделяются для безобъектных конструкций. При этом автор отмечает, что флектированные причастия встречаются во всех моделях, кроме объектных – PP + HAVE + Obj, PP + Obj + HAVE (с дополнением в вин. п.) – и 2 безобъектных моделей – PP + HAVE и HAVE + PP. Митчелл отмечает, что все примеры, в которых реализуются объектные модели, включают прямые дополнения в вин. п. [Mitchell, 1985, p. 282–283]. В целом автор приходит к выводу, что ни в прозе Альфреда, ни в текстах Эльфрика, ни в поэтических, ни в прозаических текстах анализируемая конструкция не обладает ни фиксированной формой, ни фиксированной функцией [Mitchell, 1985, p. 291]. Однако выборка Б. Митчелла основана не на корпусных данных, поэтому им не были учтены примеры с флектированным причастием в род. п.:
-
(12) & þa, æfter þan þe he hæfde unrim manna gehæledre & geclænsedra & deaddra awehte (HomS 24.1 [Scragg]:38.14) – ‘и после того, как он бесчисленное множество людей вылечил , очистил и воскресил из мертвых’,
и c прямым дополнением, выступающим в роли обстоятельства места:
-
(13) . ..þe on đam scræfe tile hwile gereste hæfdon (LS 34 [SevenSleepers]:390.284) – ‘...которые в пещере должное время отдыхали ’,
о котором речь пойдет в следующем разделе.
На основе более обширной, чем у Б. Митчелла, выборки из корпуса текстов типы дополнений, модели расположения элементов конструкции « habban + причастие II» и их частотность рассматривает И. Вишер. Самой распространенной моделью является Obj + PP + HAVE (32 %), характерная для придаточных предложений; менее частотны HAVE + Obj + PP (23 %), характерная для главного предложения, HAVE + PP + Obj (20 %), Obj + HAVE + PP (15 %); низкую частотность имеют PP + HAVE + Obj (4 %) и 2 безобъектных модели – HAVE + PP (3 %) и PP + HAVE (2 %) [Wischer, 2004, p. 245].
Каковы модели расположения элементов в рамках конструкции с флектированны-ми причастиями в нашей выборке и как они соотносятся с данными, приведенными в работах Б. Митчелла и И. Вишер? Нами было выделено 3 вида контекстов: главное, придаточное и простое предложения (к последнему виду мы будем относить также примеры сложносочиненных предложений). В каждом из них представлены несколько моделей расположения элементов: в простом предложении – 17, в главном – 6, в придаточном – 18. Представим наиболее распространенные модели, где S – подлежащее, HAVE – посессивный глагол, PP – флектированное причастие, Obj – дополнение, ObjDir – прямое дополнение, ObjInd – косвенное дополнение, ObjPrep – предложное дополнение.
Как видно из таблицы, флектированное причастие в наиболее распространенных случаях находится в постобъектной позиции за исключением 3 примеров в главном предложении. Предобъектная позиция фиксируется в менее частотных моделях. Такое располо- жение флектированного причастия встречается уже в ранних текстах короля Альфреда (период 850–950 гг.). Вполне возможно, что данные примеры отражают происходившие сдвиги в порядке слов древнеанглийского предложения. Позиция флектированного причастия в предложении не отличается от той, которая наблюдается у нефлектированных причастий и не нарушает общих требований к порядку слов (см. данные выборки И. Вишер). Кроме того, в нашей выборке встречаются примеры, которые отсутствуют у Б. Митчелла, в частности употребления причастия в род. п. и несколько случаев с 2 дополнениями: одно из которых (как правило, предложное) выносится в позицию после посессивного глагола, а другое (как правило, прямое) – перед причастием.
Для флектированного причастия наиболее характерны 2 позиции по отношению к другим элементам конструкции « habban + причастие II»: рамочная (с дополнением между посессивным глаголом и причастием) и контактная (последовательное расположение посессивного глагола и причастия) в разных соотношениях (причастие может стоять до или после habban ) и типах предложений. Логично предположить, что контактная позиция способствовала трансформации результативной семантики конструкции в перфектную, но поскольку данная позиция встречается как в ранних, так и поздних произведениях и в разных типах предложений, едва ли справедливо делать вывод о влиянии изменения порядка слов на семантику конструкции. Здесь же следует привести мнение О.А. Смирницкой, которая на основании анализа древнеанглийских текстов, начиная с самых ранних и заканчивая раннесреднеанглийскими, приходит к заключению,
Расположение элементов конструкции « habban + причастие II» в предложениях разных типов
|
Тип предложения |
Расположение элементов конструкции |
Количество примеров |
|
Простое |
but S HAVE Obj PP |
13 |
|
but S Obj HAVE PP |
6 |
|
|
S HAVE Double Obj PP |
4 |
|
|
Главное |
HAVE S PP Double Obj |
3 |
|
S HAVE Obj PP |
2 |
|
|
S HAVE ObjInd ObjDir PP |
2 |
|
|
Придаточное |
when S HAVE Obj PP |
22 |
|
when S Obj PP HAVE |
12 |
|
|
how S ObjDir HAVE PP ObjPrep |
4 |
что контактное расположение посессивного глагола и причастия не может быть объяснено распадом рамочной конструкции. По мнению автора, идиоматизация перфекта, наоборот, способствовала распространению нового порядка слов [Смирницкая, 1965, c. 13]. Исследователь не исключает, что мы имеем дело с двумя параллельными процессами (идиомати-зация перфекта и изменение порядка слов), находящимися во взаимной зависимости и вызванные разными причинами.
Вывод о том, что флексии в причастиях носили формальный характер и были лишены значения, сделанный на основании неправильного употребления флектированного причастия в примере из Вульфстана, является явным преувеличением. Во-первых, в примере & we habbađ Godes hus inne & ute clæne berypte флексия - e в berypte может быть опиской, вызванной влиянием 3 подряд стоящих наречий с флексией - e : inne , ute , clæne . Во-вторых, данный пример единичен и зафиксирован в рукописи, которая относится к позднедревнеанглийскому периоду. Следовательно, нельзя исключить возможность ошибки при переписывании, поскольку писец мог не использовать в своей речи флектированные формы причастий с анализируемой нами конструкцией, а распад флексий как в системе существительных, так и в системе прилагательных мог привести к путанице. В-третьих, если бы гипотеза И. Вишер была верна, то аналогичные примеры мы находили бы уже в ранних текстах, но в прозе Альфреда (как и в поздних текстах Эльфрика) согласование имеет стабильный характер без всевозможных ошибок:
-
(14) Swa swa wildu hors , đonne we hie æresđ gefangnu habbađ , we hie đacciađ & straciad mid bradre hanđa (CP:41.303.7.2013) – ‘как и дикие лошади, когда мы их сначала поймаем (досл. ‘ имеем пойманными ’), мы их похлопываем и гладим открытыми ладонями’.
В примере (14) из текста «Пастырское попечение» (период 850–950 гг.) причастие gefangnu соотносится с существительным hors ср. р., мн. ч, о чем свидетельствует флексия - u .
В исследованном материале имеются случаи употребления абстрактного существительного в качестве подлежащего с конструкцией « habban + причастие II»:
-
(15) Loca nu; þin agen geleafa þe hæfþ gehæledne (HomS 8 [BlHom 2]:15.24.201) – ‘Вот смотри, твоя собственная вера тебя имеет излеченным ’.
Мы полагаем, что þin agen geleafa (твоя собственная вера) используется метафорически как воплощение некой высшей силы, силы наделенной способностью творить чудеса, как проявление Всевышнего и тем самым создается возможность для употребления глагола обладания. После слов Иисуса следует предложение He þa sona instæpes geseh (HomS 8 [BlHom 2]:15.25.202) – ‘Он сразу же увидел вход’, которое позволяет трактовать hæfþ gehæledne как проявление статального результата (но не динамического процесса): в вере ты пребываешь излеченным. Более того, если бы в древнеанглийском « habban + причастие II» широко использовалась с абстрактными существительными (по шкале Хоппе-ра-Трауготт, см.: [Hopper, Traugott, 1993]), то, вероятнее всего, были бы отмечены примеры и с фиктивным подлежащим (dummy subject), выраженным местоимением it . Однако они фиксируются только в среднеанглийском (см., например: [Carey, 1994, p. 49–50, 56]).
Семантическая характеристика глаголов
Из 93 глагольных лексем лишь одна представляет собой безобъектный дуративный глагол – gerestan (отдыхать). Он употреблен в тексте Эльфрика «Жития святых», который относится к периоду 1050–1150 гг.
-
(16) . ..þe on đam scræfe tile hwile gereste hæfdon (LS 34 [SevenSleepers]:390.284) – ‘...которые в пещере должное время отдыхали ’.
Пример (16) анализируется в работе К. Кэри, посвященной истории развития перфекта в английском языке. Хотя gerestan – это глагол деятельности по классификации Вендлера (activity verb), автор, как мы полагаем, верно отмечает, что gerestan не является безобъектным, поскольку обстоятельство времени tile hwile (должное время) в данном предложении можно рассматривать как «псевдообъект» [Carey, 1994, p. 74]. Мы считаем такой подход правильным, поскольку он позво- ляет непротиворечиво объяснить использование флектированного причастия. Во-первых, если tile hwile, выступающее на уровне семантических ролей как сирконстант, рассматривать в качестве дополнения, то дура-тивный глагол деятельности трансформируется в таком случае в предельный глагол совершения по классификации Вендлера (accomplishment verb), указывающий на результирующее состояние, находящееся в сфере субъекта. Во-вторых, tile hwile представляет собой субстантивное словосочетание, состоящее из ядра-существительного (мн. ч. ж. р. от hwil) и согласующегося с ним прилагательного tile (должное, длительное). Отсюда появление флексии -e у причастия и его согласование с дополнением. Анализ примера (16) демонстрирует важность конкретного контекста для толкования семантики того или иного глагола.
Рассмотрим другие утверждения И. Вишер относительно употребления непредельных глаголов в анализируемой конструкции. В выборке исследователя большинство глаголов являются предельными, однако лингвист приводит 3 примера, противоречащие, по ее мнению, тезису, согласно которому глаголы ( gehealdenne , gesewene , gesyngod ), используемые в качестве причастия в конструкции « habban + причастие II», являются исключительно предельными [Wischer, 2004, p. 249]. Для анализа мы выбрали первые 2, поскольку они интересуют нас еще и как флектирован-ные причастия. Рассуждая о предельности и непредельности, Б. Комри замечает, что эти семантические аспектуальные характеристики глагола зависят от контекста: в make a chair – make предельный глагол, поскольку ситуация предполагает некий конечный пункт создания стула; в John is singing – sing непредельный глагол, так как ситуация не включает подобного конечного пункта, но при этом действие, названное в John is singing a song является предельным [Comrie, 1976, p. 44–45]. Приведем пример, цитируемый И. Вишер, но в более расширенном варианте, с началом предложения, опущенного в ее цитации:
-
(17) he cwæđ: đæt sindan đa đa đe mid wifum ne beođ besmitene , & hira mægeđhad habbađ gehealdenne (CP:52.409.5.2814) – ‘он сказал: это те,
кто женами не опорочены и свою непорочность сохранили ’ (досл. ‘имеют сохраненной’).
В примере (17) следует обратить внимание на некоторые особенности. Несмотря на то, что глагол gehealdan действительно обозначает продолжительное действие (хранить, держать, поддерживать), конструкция « habban + причастие II» используется с прямым объектом, а глагол имеет приставку ge -, которая, как правило, выполняет телисизирующую функцию (см.: [McFadden, 2015]). Кроме того, « habban + причастие II» используется параллельно с пассивной конструкцией « beon / wesan + причастие II», включающей флекти-рованное причастие и выражающей результирующее состояние. В совокупности эти данные указывают на то, что habbađ gehealdenne в примере (17) имеет результативный характер, поскольку указывает на состояние, в котором прибывает субъект, совершивший над объектом определенное действие: неопороченные и сохранившие непорочность (те, кому удалось достичь этого результата). Подобным образом можно трактовать употребление ста-тального глагола ge-seon (видеть) и ряд других, в частности, ge-singan в контексте с прямым дополнением:
-
(18) Ða hig hæfdon heora lofsang gesunggenne þa ferdon hig ... (Mt [WSCp]:26.30.1877) – ‘когда они свою хвалебную песнь спели (досл. ‘ имели спетой ’), тогда отправились они...’
Аналогичные этому примеры приводит Б. Комри для иллюстрации предельности в современном английском языке. Итак, в нашей выборке все глаголы за исключением funden от findan (находить) (имеющиеся 15 примеров употребления бесприставочного глагола findan относятся к разным периодам) используются с те-лесизирующей приставкой ge - или другими приставками: a - biddan (приглашать), be - fón (ловить), for - corfian (отрезать), ofer - cuman (преодолевать), of - sleán (убивать), on - lísan (освобождать). Эти приставки кроме изменения лексического значения создают предельность ситуаций, которые обозначены глаголами.
Как отмечает В.А. Плунгян, «результа-тив оказывается достаточно слабо грамматикализованной глагольной формой: он имеет существенные ограничения на образование
(будучи возможен только у предельных процессов...) и хорошо предсказуемую “узкую” семантику, выводимую из лексического значения глагола» [Плунгян, 2016, c. 10]. Иными словами, глаголы, используемые с результа-тивом, как правило, обладают семантикой изменения состояния (ср., например: [Сичинава, 2005, c. 87], где приводятся лексемы типа садиться , вешать , ломать ). Действительно, кроме вышеприведенных факторов, способствующих созданию предельной ситуации, как отмечалось во многих работах, лексическая семантика глаголов, используемых в качестве флектированного причастия, способствует реализации значения предельности, поскольку глаголы обозначают: изменение состояния – a-fýlan (порочить, загрязнять), a-hón (вешать, распинать), á-hýdan (прятать), a-hyrdan (затвердевать), á-weccan (воскрешать), be-lúcan (заточать, закрывать), be-smítan (порочить, запятнать), ge-clсеnsian (очищать), ge-búgan (сгибать), ge-líffæstan (оживлять), ge-scógan (обувать), ge-swefian (усыплять, умиротворять), ge-týnan (закрывать, прятать), ge-wyldan (укрощать, подчинять), on-lísan (освобождать); завершение действия – ge-fyllan (наполнять, выполнять, заканчивать), ge-lсеstan (выполнять, завершать); лишение / дарение – á-drífan (прогонять), aflieman (изгонять), a-dræfan (прогонять), be-niman (лишать, забирать), be-rípan (обдирать, лишать), ge-niman (забирать), ge-sellan (отдавать); ментальные процессы (говорение, восприятие) и эмоции – ge-hátan (командовать, клясться), ge-leornian (учить), ge-manian (увещевать), ge-reccan (рассказывать), ge-seón (видеть), ge-wilnian (хотеть, желать); движение – ge-féran (ехать, путешествовать), ge-cyrran (поворачиваться, возвращаться). С глаголами движения используется флектированная форма причастия, но, как показано в [Бондарь, 2017], « habban + причастие II» с нефлектированной формой причастий также обладала семантикой результативности. Более того, примеры использования стативных глаголов, в частности ментальной деятельности и говорения, приводимые как доказательство наличия перфектной семантики у анализируемой конструкции (см.: [Łęcki, 2010; Wischer, 2004]), в [Carey, 1994] анализируются как результативы.
Список литературы Перфект и формы второго причастия в древнеанглийском языке
- Бондарь В. А., 2017. Habban причастие II с глаголами движения в древнеанглийском языке // Вопросы языкознания. №. 5. С. 75-91.
- Плунгян В. А., 2016. К типологии перфекта в языках мира // Acta Linguistica Petropolitana. Труды института лингвистических исследований. Т. 12, ч. 2. С. 7-36.
- Сичинава Д. В., 2005. Типология глагольных систем с синонимией базовых элементов парадигмы: дис канд. филол. наук. Москва. 444 с.
- Смирницкая О. А., 1965. Происхождение аналитической формы перфекта в древних германских языках: автореф. дис канд. филол. наук. Москва. 18 с.