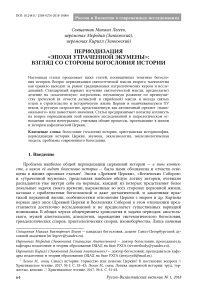Периодизация «Эпохи утраченной экумены»: взгляд со стороны богословия истории
Автор: Михаил Викторович Легеев, Зинковский Станислав Анатольевич, Зинковский Евгений Анатольевич
Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald
Рубрика: Россия и Византия в современных исследованиях
Статья в выпуске: 1, 2018 года.
Бесплатный доступ
Настоящая статья продолжает цикл статей, посвящённых тематике богословия истории. Вопрос периодизации святоотеческой мысли второго тысячелетия как правило выходит за рамки традиционных патрологических курсов и исследований. Стандартный вариант изучения святоотеческой мысли, предполагает деление на «классическую» патрологию, изучающую развитие по преимуществу греческой (и отчасти латинской и сирийской) мысли и вклада святых отцов в строительство и историческую жизнь Церкви и оканчивающуюся XV веком, и русскую патрологию, представленную как автономный предмет «национального» или поместного значения. Статья предпринимает попытку взглянуть на вопрос периодизации этой наименее исследованной в патрологическом отношении эпохи интегрально, учитывая общие процессы, протекающие в жизни и истории кафолической Церкви
Богословие (теология) истории, христианская историософия, периодизация истории Церкви, экумена, экклезиология, экклезиологическая модель, проблемы современного богословия
Короткий адрес: https://sciup.org/140240156
IDR: 140240156 | DOI: 10.24411/2588-0276-2018-10004
Текст научной статьи Периодизация «Эпохи утраченной экумены»: взгляд со стороны богословия истории
Проблема наиболее общей периодизации церковной истории — в том контексте, в каком её видит богословие истории — была нами обозначена и отчасти освещена в наших прошлых статьях1. Эпохи «Древней Церкви», «Вселенских Соборов» и «утраченной экумены», представляя наиболее общую логику истории, очевидно распадаются уже внутри себя на периоды, каждый из которых представляет более локальные задачи своего времени, выраженные во всех сторонах церковной жизни, начиная с проблематики богословской и даже догматической, и заканчивая практикой церковной жизни, особенностями отношения Церкви с миром и др. Картина первых двух эпох (Древней Церкви и Вселенских Соборов) в этом отношении представляется достаточно исследованной и не предполагает существенных вариаций понимания. В общих чертах общеприняты хронология и задачи периодов: апостольского, мужей апостольских, апологетов, зарождения систематического богословия, триадологических споров, христологических споров, иконоборчества. Лишь начиная
с IX века, то есть с постепенного перехода от эпохи Вселенских Соборов к эпохе утраченной экумены, картина становится существенно менее очевидной, однозначной и исследованной.
Так, концептуальное видение истории, в свою очередь, ставит вопрос о дальнейшей, более детальной, внутренней периодизации эпохи утраченной экумены, начало которой возможно полагать с началом IX века, а конец, пока неизвестный, будет означать и конец истории. Наметим «опорные точки» такой периодизации, исходя из тех предпосылок, которые были нами обозначены в предыдущих работах2.
2. зарождение новой эпохи
Время свт. Фотия знаменует собой подготовку, вызревание, а быть может, в самом своём начальном моменте — уже и наступление новой эпохи. Исповедание вопроса о предвечном исхождении Святого Духа от Отца являет себя как необходимая платформа для раскрытия того значения Святого Духа, того Его специфического действования и Его роли (всего того, что обнимается богословским понятием «образ действия» 3, при всей сравнительной редкости употребления этого понятия в святоотеческом богословии), которые Он имеет в Церкви:
1. в человеке, отдельном церковном члене и его духовной жизни,
2. в общине,
3. и, наконец, во всецелой и кафолической Церкви.
3. человек в церкви (IX в. — 1-я пол. XV в.)
Уже позже свт. Григорий Палама будет отстаивать важнейшее положение церковного учения о богопознании: человек способен познавать непознаваемую сущность Божию в энергиях и так ей, самой по себе неприобщимой, приобщаться. Согласно его учению, энергия Божия есть для человека свидетельство Божией сущности, сохраняя саму сущность в тайне. Но более ранняя проблематика пневматологии затрагивает в каком-то смысле ещё более «первичный» вопрос — проблему богопознания в контексте его ипостасной реальности . Ведь и ипостасное бытие есть также тайна. Всякое лицо — тайна, и тайна для всякого человека. Эта мысль касается не только бытия Лиц Святой Троицы, но даже и каждой человеческой личности4. Каждый человек — тайна, тайна для другого5; но эта тайна способна приоткрывать себя по мере углубления перихорестического общения человеческих ипостасей, обретаемого в Церкви6. Ещё большей — беспредельной — тайною являют Себя Лица Святой Троицы — Отец, Сын и Святой Дух, венчающий внутритроическую полноту 7. Но и эта тайна способна постепенно раскрывать себя через перихорестическое общение человека с Богом8.
Именно в образе действия познаётся ипостасное бытие (но вместе с тем, образом действия не исчерпывается ипостасное бытие Троических Лиц, само по себе бесконечно более глубокое в своей тайне9). Отображение Троического образа Откровения (образа действия) в ипостасной10 жизни Церкви, даже усвоение Церковью (а следовательно, в своей мере, и отдельным её членом) этого образа11, свидетельствует о её единстве с Богом, о таинственной жизни и присутствии всей полноты Святой Троицы в Церкви Христовой12. Искажённое понимание отношений между Лицами Святой Троицы неизбежно повлечёт за собой искажённое понимание Троического образа Откровения, которое, в свою очередь, сделает Церковь неспособной усвоить истинный образ, а вместе с ним — неспособной к усвоению благодати Божией, сделает её неспособной быть Церковью. Эту мысль возможно применить к Церкви не только как к общине (Поместной Церкви), но и к отдельно взятому человеку.
Так, учение о Святом Духе представляет прежде всего проблематику богопозна-ния и имеет в своей перспективе экклезиологическую подоплёку. «Кинония как общение личностей с Богом и друг с другом предполагает богословие Духа»13. Споры о filioque открывают начало новой эпохи — эпохи, в основных своих векторах внутреннего богословского развития и интенциях (при всём многообразии поднимаемых в этом огромном тысячелетнем «пространстве» тем), сводимой, прежде всего, к догмату о Церкви .
Дальнейший ход истории в X — XIV веках (включая и первую половину XV в.), называемый также временем или периодом исихазма 14, представляет собой фокус богословского внимания, нацеленный на человека. Отдельный человек, его духовная жизнь и путь в Церкви — становятся главным предметом богословского внимания этого времени. Всё, что обеспечивает эту жизнь, эту церковность личности, общение человека с Богом — составляет спектр вопросов и тем, поднимаемых и затрагиваемых богословами этого периода: пневматология и богословие таинств, аскеза и проблематика богопознания, наконец, в широком смысле литургическое богословие — таковы эти темы.
Выдающиеся персоналии данного периода обозначают собой и ключевые вехи «богословия человека как Церкви»:
1. Свт. Фотий Константинопольский, IX в. Проблематика предвечного исхожде-ния Святого Духа как основание для раскрытия образа действия Святого Духа в человеке и Церкви.
2. Прп. Симеон Новый Богослов, X-XI вв. Начало проблематики отдельного человека, роли личности в духовном процессе. Основание «автобиографического» богословия.
3. Свт. Николай Мефонский, XII в. Проблематика подражания и таинственного соприобщения человека (в Экклисии) Христу, Его Жертве, — как основание аскезы человека.
4. Свт. Григорий Палама, 1-я пол. XIV в. Учение о богопознании в контексте обожения человека. Торжество катафатического богословия как первичной основы развития отношений Бога и человека.
5. Св. Николай Кавасила, 2-я пол. XIV в. Учение о духовном пути человека как о синергийном пути аскезы и таинств.
6. Свт. Симеон Солунский, XV в. Торжество литургического богословия; проблематика всестороннего участия человека в общем делании Церкви.
4. Экклезиологическая проблематика общинного бытия
Именно этот период исторического бытия Церкви знаменуется действительной сращенностью двух генеральных направлений святоотеческой мысли, до того момента шествовавших в той или иной степени автономно — богословия догматического и аскетического. Проблематика отдельного человека, бывшая дотоле прерогативою по преимуществу богословия аскетического и имевшая на этом поприще выдающиеся памятники святоотеческой письменности заменитейших святых отцов, таких как прпп. Макарий Египетский, Иоанн Кассиан, Варсонофий Великий, Иоанн Синайский, Исаак Сирин и многих других, с началом эпохи утраченной экумены обретает догматическое измерение в предельных вопросах, относящихся к бытию человека в Церкви и его бытию как Церкви.
В практической жизни Церкви этот период оказывается ознаменован предчувствием, а затем и началом кенозиса Церкви: всё большим и большим расхождением Запада и Востока, а затем и такой удар по Церкви, который оставит от прежней её «вселенскости» лишь половину; с утратою своей половины, Церковь навсегда утратит и вселенский масштаб, конечно же сохранив свою кафоличность, внутреннюю целостность, которая есть её необъемлемое и существенное свойство. Нападение от «своих» (захват Константинополя в 1204 г.) продолжит путь этого кенозиса15 — путь, ощущаемый уже и как некий начаток страданий, но, прежде всего, как утрата видимого торжества Церкви в истории.
(2-я пол. XV–XVII вв.)
Фокус внимания церковной мысли IX — XIV веков на человеке и его бытии в Церкви, его личной истории («малой священной истории отдельного человека») сменяется в XV веке ориентацией на проблемы если и не вселенского, то, по крайней мере, географического масштаба. Само течение истории диктует эти изменения: Флорентийская уния, а затем и падение Константинополя, — эти факторы определят не только сдвиг внимания, но и географию церковной мысли, её эпицентр переместится с территории Византии в тогда периферийную Русь. Её внутренние условия окажутся наиболее способными для принятия этой исторической «эстафеты».
С падением Константинополя не только грекоязычный христианский мир, но и все Поместные Церкви обнаружат себя в совершенно новой экклезиологиче-ской реальности — реальности, хотя и не кафолического, но общинного масшта-ба16. Но, конечно, прежде всего, это коснётся двух Поместных Церквей, которые и приобретут впоследствии значение двух наиболее влиятельных центров православного мира — Константинопольской и Русской.
В чём состояла новизна этой «реальности»? Для греков мир видимого торжества Церкви, сохранявшегося в остатках святой Византии, рухнул, и необходимо было научиться выживать в условиях локального кенозиса ; земное торжество Церкви оказалось временной ступенью к чему-то большему и неведомому. Но и русскоязычный мир Православия, единственный, сохранивший православную государственность, также оказался перед лицом этой «новой реальности». Осознавая себя единственным преемником этого видимого торжества (в локальном же масштабе), преемником воцер-ковлённого социума, Святой Русью — наследницей Святой Византии, Русская Церковь оказывается «на оборотной стороне медали» того же самого изменённого мира.
Богословская проблематика в этот период приобретает во-многом практический характер 17; она находит своё отражение, как правило, не в научно-богословских и литературных трудах, а в практических действиях, свидетельствующих об изменившейся исторической действительности и являющих собой движимую той или иной внутренней идеей реакцию на эту действительность. Такая ситуация сохранится в общем и целом до середины XVIII века, когда колливады поднимут проблему реакции Церкви на духовное ослабление человека как знак времени, а затем и (уже в начале XIX в.) явление филетизма обнаружит человеческую слабость как знак времени не только в отдельном человеке, но и в Поместных Церквах, то есть в общинном бытии. Всё это станет предвестием начала нового периода внутри эпохи утраченной экумены.
Выделим следующие основные интенции и вехи периода XV — XVIII веков с соответствующими «знаковыми» фигурами своего времени — далеко не всегда богословами, но, как правило, практиками церковной жизни:
1. Инок Филофей (нач. XVI в.) и сформулированная им идея «Москва — третий Рим». Первая реакция на изменившуюся «экклезиологическую реальность» общинной жизни двух (греко- и русскоязычного) миров. Константинопольская и Русская Поместные Церкви перешли в радикально новые отношения с окружающим миром18.
2. Прпп. Иосиф Волоцкий и Нил Сорский, нач. XVI в. Осмысление связи общинного бытия Церкви с миром. Спор о монастырских землевладениях, который являлся слепком и образом с более фундаментальной проблемы, имеющей в том числе глубоко богословский характер: отношения Церкви и социума (Церковь как человек — и мир, Церковь как семья — и мир, Церковь как монастырь — и мир, и т. д.).
3. Патр. Никон, XVII в. и его экклезиологическая сверхзадача — консолидация православного мира в эпоху кенозиса19 (в ответ на чрезмерное и растущее различие практической жизни Поместных Церквей как угрозу их кафолическому единству в эпоху кенозиса Церкви).
4. Отцы колливады (свт. Макарий Коринфский, прп. Никодим Святогорец и др.), 2-я пол. XVIII в. Реакция на проблему усиления искушений мира и, соответственно, историческую уязвимость таких ипостасных «форм» экклезио-логического бытия20 как отдельный человек и община.
5. кафолическая церковь перед лицом предельных вопросов о себе самой
Наступление мира на Церковь в этот период продолжается. Актуальные для этого времени модели «христианской экумены» в отдельно взятой стране21, а с другой стороны, кенозиса Церкви в отдельно взятой стране22 выступают образами прошлого и, с другой стороны, будущего положения кафолической полноты Церкви и её истории.
Конец XVIII века, а затем и весь XIX век очевидно свидетельствуют о резком нарастании апостасийных процессов в мире и переходе их в экспоненциальную фазу . В церковной жизни это изменение проявляется общим ослаблением аскезы и кардинальным усилением искушений мира, адресованных в сторону Церкви. Внутренней реакцией на эти процессы со стороны Церкви выступает постепенно нарастающее движение за частое причащение23 и, вместе, — пробуждение, казалось бы, спящего богословия с приходом старого, но вместе с тем и нового остро актуального вопроса — что есть Церковь? Что есть Церковь перед лицом этого отступающего от неё мира, Церковь в своей предельной полноте, Церковь как кафолическое и таинственное целое, как пристанище спасения, от которого уходит, казалось бы, весь мир? С предельной остротой вопросы, связанные с догматическим пониманием того, что есть Церковь, вызревают и ставятся впервые; и столь же впервые история ожидает предельных ответов на эти вопросы, — настолько, насколько предельно (в возможных и необходимых для человека пределах) были некогда, в своё время, поставлены и раскрыты в самосознании Церкви другие важнейшие догматические истины — о Боге Троице и о Христе.
Каковы исторические вехи этого периода, включая наше время?
-
1. Начало оригинального русского богословия в XIX в.: свв. Филарет Московский, Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник, Иоанн Кронштадтский. Вызревание экклезиологической проблематики будущего XX века.
-
2. Расцвет русского богословия в XX в. и формирование основных векторов экклезиологии кафолической Церкви (неопатристический синтез (прот. Г. Фло-ровский, В. Н. Лосский, прп. Иустин Попович), евхаристическая экклезиология (протопр. Н. Афанасьев, протопр. А. Шмеман, митр. И. (Зизиулас)), попытки синтеза направлений (протопр. И. Мейендорф, архим. Софроний (Сахаров))24).
-
3. XXI в. Вызревание проблемы применения универсального понятийного аппарата в экклезиологии. Формирование альтернативных экклезиологических концепций (представленных, соответственно, в Русской и Константинопольской Церквах).
Окружающим фоном обозначенных внутрицерковных процессов предстают следующие исторические процессы, происходящие, соответственно, в различных масштабах социального бытия:
1. На уровне отдельного человека: многообразие зависимостей и феминизация.
2. На уровне социумов: социально-революционные процессы.
3. На уровне человечества: нарастающий процесс глобализации как одновременные интеграция и дробление мира.
6. заключение
На протяжении настоящего периода в самой церковной жизни или на её периферии возникают явления, требующие осмысления и реакции Церкви: русское мессианство, филетизм некоторых Поместных Церквей, обновленчество, «неопапизм» Константинополя. Все они имеют экклезиологический характер и будут требовать, соответственно, экклезиологического осмысления. Экклезиологические проблематики экуменизма и границ Церкви также заявляют свои права.
Что касается собственно богословия, то весь XX век будет занят размышлениями богословов о троических основаниях Церкви25. Акцент на христологическом аспекте Церкви особенно отчётливо обозначится в таком направлении мысли как евхаристическая экклезиология; но время покажет и недостаточность такого взгляда26. Применение догматического понятийного аппарата в области экклезиологии и её актуальных вопросов в XX веке ещё не будет осознаваться насущной задачей27. «Христианская экумена» в отдельно взятой стране, равно как и кенозис Церкви в отдельно взятой стране, с началом, и особенно концом, XX в. перейдут в разряд прожитых и во многом осмысленных богословских реалий. Настанет время универсальных экклезиологиче-ских вопросов и поиска универсальных ответов.
История показывает, что предельные постановки тех или иных догматических вопросов, с неумолимой логикой последовательно заявляющие себя в истории, шествуют последовательностью Символа веры. Эпоха экклезиологических вопросов растянулась на тысячелетие, постепенно восходя в своём внутреннем масштабе от проблем духовного роста и бытия в Церкви отдельного человека до проблем кафолического измерения . Отображение в этом историческом простирании самой модели Церкви (человек, община, кафолическая Церковь) свидетельствует о глубинности происходящих в истории процессов — об их таинственной логике, таинственно же сочетаемой со свободою человека28.
История продолжается. Её процесс не окончен и, несомненно, потребует нового осмысления происходящих событий, корни которых уходят в византийскую предысторию русского богословия, и ещё дальше — вглубь времён. Вся Церковь, всецело, во всём своём историческом бытии — ещё только призвана уподобиться Христу и осуществить в себе всецелое содержание Его Подвига, осуществить «исчерпывающую степень “истощания”»29; в конце концов «перед нами в какой-то момент встанет задание — единоборства со всем миром»30.
Список литературы Периодизация «Эпохи утраченной экумены»: взгляд со стороны богословия истории
- S. Gregorius Palamas. Homilia V // PG 151.
- Origenis. In Psalm. 23,1 // PG 12.
- Григорий Богослов, свт. Слово 28, о богословии второе // Он же. Собрание творений. В 2-х тт. Т. 1. Сергиев Посад: Изд-во Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1994.
- Легеев М., свящ. Богословие истории и актуальные проблемы экклезиологии. СПб.: Изд-во СПбДА, 2018. — 312 с.
- Легеев М., свящ. Логика церковной истории: труд, торжество, кенозис // Христианское чтение. 2017. № 6. С. 51-63.
- Легеев М., свящ. Природа и «ипостась» Церкви. К вопросу о понятийном аппарате современной экклезиологии и богословия истории // Христианское чтение. 2017. № 3. С. 68-79.
- Легеев М., свящ. Свобода и закономерности в истории // Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной академии. 2017. № 1. С. 143-155.
- Легеев М., свящ. Смысл истории: торжество или кенозис Церкви? К постановке вопроса // Христианское чтение. 2017. № 5. С. 33–43.
- Легеев М., свящ., Мефодий (Зинковский), иером., Кирилл (Зинковский), иером. «Вперёд к отцам» или «назад в будущее»? Две тенденции в богословии XX века. Часть 1 // Христианское чтение. 2016. № 6. С. 107-127.
- Легеев М., свящ., Мефодий (Зинковский), иером., Кирилл (Зинковский), иером. «Вперёд к отцам» или «назад в будущее»? Две тенденции в богословии XX века. Часть 2 // Христианское чтение. 2017. № 1. С. 18-26.
- Легеев М., свящ., Мефодий (Зинковский), иером., Кирилл (Зинковский), иером. Путь Церкви: аскеза, таинства, кафолическая полнота // Христианское чтение. 2017. № 2. С. 16-28.
- Мейендорф И., протопр. Единство Церкви — единство человечества // Он же. Церковь в истории. М.: Изд-во ПСТГУ, 2018. С. 903-920.
- Мейендорф И., протопр. Существовал ли когда-либо «Третий Рим»? // Он же. Церковь в истории. М.: Изд-во ПСТГУ, 2018. С. 592-608.
- Мефодий (Зинковский), иером. Святоотеческие категории и богословие личности. СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2014.
- Софроний (Сахаров), архим. Видеть Бога как Он есть. М.: Путём зерна, 2000.
- Софроний (Сахаров), архим. Старец Силуан. Эссекс: Свято-Иоанно-Предтеченский монастырь, 1990. С. 14-15.
- Софроний (Сахаров), архим. Таинство христианской жизни. М.- Эссекс: Свято-Троицкая Сергиева Лавра — Свято-Иоанно-Предтеченский монастырь, 2009.