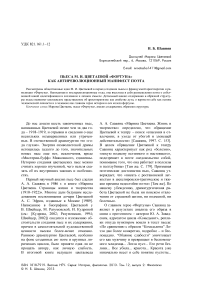Пьеса М. И. Цветаевой "Фортуна" как антиреволюционный манифест поэта
Автор: Шаинян Наталья Багратовна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.12, 2013 года.
Бесплатный доступ
Рассмотрены общественные идеи М. И. Цветаевой в период создания пьесы о французской аристократии и революции «Фортуна». Написанная в послереволюционные годы, она вместила в себя размышления поэта о собственной новой идентификации в сословном и личном смысле. Детальный анализ содержания и образной структуры пьесы выявляет цветаевское представление об аристократизме как свойстве духа, о верности себе как основе человеческойличности и о человекекакглавном герое истории и оси колеса фортуны.
Марина цветаева, пьеса "фортуна", анализсодержания, образная структура
Короткий адрес: https://sciup.org/147218737
IDR: 147218737 | УДК: 821.161.1–12
Текст научной статьи Пьеса М. И. Цветаевой "Фортуна" как антиреволюционный манифест поэта
До нас дошли шесть законченных пьес, написанных Цветаевой менее чем за два года – 1918–1919, и отрывки и сведения о еще нескольких незавершенных или утраченных. В отечественной драматургии это «года глухие». Энергия символистской драмы истощилась задолго до того, значительных новых пьес еще нет, исключения, вроде «Мистерии-буфф» Маяковского, единичны. Историю создания цветаевских пьес можно считать хорошо изученной, чего нельзя сказать об их внутренних законах и особенностях.
Первый научный анализ пьес был сделан А. А. Саакянц в 1986 г. в книге «Марина Цветаева. Страницы жизни и творчества (1910–1922)». Многое дали будущим исследованиям воспоминания дочери Цветаевой А. С. Эфрон, изданные в Москве [1989]. Написанное в биографиях Цветаевой у В. Швейцер, М. Разумовской, И. Кудровой (см.: [Кудрова, 2002; Разумовская, 1994; Швейцер, 2002]) сводится к изложению обстоятельств создания пьес и их содержания, причем в самостоятельной художественной ценности пьесам более-менее отказано. Раннюю драматургию Цветаевой, особенно на фоне созданных ею поэм и крупных лирических циклов, было принято едва ли не прощать автору, как личную слабость. В итоговой книге ведущего цветаеведа
А. А. Саакянц «Марина Цветаева. Жизнь и творчество» определено, что обращение Цветаевой к театру – поиск «спасения в отвлечении, в уходе от убогой и зловещей действительности» [Саакянц, 1997. С. 153]. В целом обращение Цветаевой к театру Саакянц характеризует как род «болезни», «некую подмену истинного и настоящего», подозревает в поэте «недовольство собой, понимание того, что она работает в полсилы и полглубины» [Там же. С. 179]. Признавая поэтические достоинства пьес, Саакянц утверждает, что «писать с ростановской легкостью в шекспировски-трагические и тяжкие времена недостойно поэта» [Там же]. По нашему убеждению, драматургическая работа Цветаевой не была ни поиском отвлечения от страшной жизни, ни подменой, ни болезнью.
О главном герое «Фортуны» Саакянц заявляет в результате анализа его образа в связи с прототипом – актером Ю. А. Завадским, адресатом цикла «Комедьянт», реплики откуда пунктиром вошли в текст пьесы: «По сравнению с образом “Комедьянта” Ло-зэн дан более конкретно, подробно – и беспощадно. “Обаяние слабости” уничтожает его как мужчину и превращает в беспомощного младенца... Лозэн пуст... Его речи безлики... Все убила... красота... Красота уже изначально несет в себе понятие пустоты...
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2013. Том 12, выпуск 2: Филология © Н. Б. Шаинян, 2013
пустое место, к которому стягиваются все страсти и события... куда проникает Рок» [Саакянц, 1997. С. 159–160]. В ткани пьесы, безотносительно к циклу «Комедьянт» и тем более к биографическим предпосылкам, мы не обнаружили оснований для подобной трактовки, о чем подробнее ниже. Уничижительной трактовке Лозэна сопротивлялась бы сама Цветаева, подпавшая под чары своего персонажа и его прототипа. «Лозэн – мой первый герой после Герцога Рейх-штадтского («Орленок» Э. Ростана. – Н. Ш. ) <...> Лозэна и Казанову (т. е. Фортуну и Приключение) я люблю абсолютно , – ни строчки вычеркнуть!» [Цветаева, 2000. С. 343].
Майкл Мейкин предлагает взгляд на художественный мир пьес Цветаевой с точки зрения «унаследованных» (в его терминологии), так или иначе задействованных ею текстов. Раннюю драматургию Цветаевой Мейкин считает «наименее удавшимися» из ее произведений той поры. Тем не менее «темы заката эпохи, утраты величия, болезненного хода времени... и откровенная ностальгия по исчезающему из жизни благородству (как социальному, так и личному) показывают, в какой степени события современности влияют на творчество поэта» [1997. С. 67]. Наиболее удачными «с точки зрения литературного и драматического канона» Мейкин считает «Приключение» и «Фортуну», объясняя это основанностью на мемуарных источниках.
«Сильный драматический накал сцен, заимствованных из мемуаров Лозэна... помогает затушевать отсутствие четкой фабулы и эпизодический характер пьесы» [Там же. С. 75]. Такой взгляд на цветаевскую драматургию – с точки зрения «крепко сколоченной пьесы», не актуальной уже и для предшественников Цветаевой в драматургии, не позволяет оценить ее своеобразие и заставляет видеть лишь эпизодичность и бессюжетность там, где явлен новый подход к сюжету.
Своеобразный взгляд на драматургию Цветаевой представлен в исследованиях Романа Войтеховича, филолога из Тарту. Исследуя метасюжет творчества Цветаевой – интерпретацию мифа о Психее, он рассматривает ее раннюю драматургию как вариации этого сюжета. Смысловой стержень пьес, по Войтеховичу, заключен в постижении протагонистом своей судьбы, т. е.
смысла жизни как любви к своему избраннику, олицетворяющему душу. Это постижение связано со смертью героя. Исследователь отмечает также, что в ранних пьесах для Цветаевой главным является не героиня, а герой – Амур, как воплощение любви (см.: [Войтехович, 2005]).
А. Г. Образцова, специалист по истории театра, написала небольшую работу о типах художественного дарования М. Цветаевой и Ю. Завадского, обнаруживая и сходства, и различия в их творческом мышлении; и, конечно, влияние личности Ю. А. Завадского на такие образы, как Лозэн, Каменный Ангел, Господин в плаще. Интересно замечание о «флейте»-лирике, которая перестала удовлетворять поэта, заставив обратиться к драме: «Флейта... готова обратиться в иерихонскую трубу и затрубить на весь мир о грозных переменах в жизни, о страданиях человечества» [Образцова, 1991. С. 199].
Отметив эти важные моменты в работах исследователей, обращавшихся к пьесам Цветаевой, рассмотрим идейный контекст, в котором совершалась работа над циклом пьес, и особенно сосредоточим внимание на анализе пьесы «Фортуна» и связанным с ней комплексом социальных и экзистенциальных размышлений поэта.
Революционные годы стали для Цветаевой временем напряженной творческой работы и стремительного внутреннего роста. Очевидно, что важнейшими внешними причинами цветаевского обращения к драматургии в тот период стали ее знакомство с участниками Мансуровской театральной студии под руководством Е. Б. Вахтангова, вхождение в их круг и косвенная причастность к их работе, а главным образом, очарованность ими лично и театром как таковым (см.: [Антокольский, 1988]).
Пусть эпохи, которые избрала Цветаева материалом для своих пьес, были далеки от русской революции – это не эскапизм и попытка бегства в башню из слоновой кости. Цветаевские пьесы, написанные в нетоп-ленном доме замерзающими чернилами, есть ее ответ революции. Поэт начинает поиск новой точки отсчета в самоидентификации – сословной и личностной. Цветаева оказывается один на один с историей. Ее одиночество в революцию – и физическое (одна с двумя детьми), и метафизическое (нет «единомышленников», равных масштабом).
Поиск соприродного себе в опрокинутом мире вызвал у Цветаевой своеобразное обострение сословного чувства, прежде ей чуждого. «Моя самая сильная и драгоценная во мне страсть – страсть собственного достоинства и ранга» – замечает она летом 1919 г. [2000. С. 381]. Поэт абсолютизирует прошлое, видя в нем свою духовную родину и приписывая ему не столько моральную, сколько цивилизационную безупречность. Эстетическое восхищение здесь несколько доминирует, хотя и связано с этической оценкой. Осмысленная любимыми Цветаевой романтиками и вновь актуализированная русской революцией и неизбежно возникающими параллелями, абсолютистская Франция становится для нее пространством идеальной соразмерности человека и поступка, личности и истории. Франция XVIII в. представляется ей такой погибшей цивилизацией, где все понятия совпадали с идеальными, в ее понимании.
Героем современности был провозглашен «простой человек», «рабочий человек», тот, кто наследовал в русской культуре образу «маленького человека», темного и угнетенного средой, и кто впоследствии вырос в «советского человека», предельно догматизированного, усредненно мыслящего и оторванного от культуры как от «недоступного простому человеку». По сути, новая власть отменяла разность масштабов, иерархию, оппозицию «благородства» и «хамства» – эти термины не случайно описывают и сословные, и нравственные качества. Цветаева очень рано и исключительно точно уловила мертвящий дух новой идеологии. Отменяя разность в масштабе человеческом, уравнивая людей между собой, последних с первыми, эта идеология предлагала взамен масштаба личного – масштаб общих свершений, вместо высоты человеческого роста – ширь человеческих масс, где ничто не должно возвышаться над общим уровнем. Именно это вызвало активный творческий протест Цветаевой, она начинает поиск того, кого можно противопоставить «простому человеку», представленному безликой массой.
Первый, кто приходит ей на ум – это аристократ, человек, воплощающий в себе благородство во всех смыслах слова, веками шлифуемое совершенство духа. Собственно цветаевское толкование сословных понятий заключается в перенесении их на систему моральных оценок. Ей важно, кто именно воплощен в «аристократе и хаме», и где она сама по отношению к ним.
Пятиактная пьеса М. И. Цветаевой «Фортуна» создана в феврале 1919 г. Она написана о реальном историческом лице – герцоге Лозэне, жившем в эпоху Французской революции, и развернута в панораму целой жизни, от рождения до смерти героя. И эта жизнь мифологизируется Цветаевой, из реальной биографии она отбирает – скорее сочиняет – пять эпизодов, делая их пятью картинами, и соединяет их присутствием Фортуны. Это слово – и имя одного из персонажей, и название пьесы – многозначно. Прежде всего, оно подразумевает судьбу, которая, как известно с Античности, слепа, для человека непостижима и управляется роком, в который могут вмешаться, но не могут изменить даже боги. Этого персонажа из Античности унаследовало Средневековье, которое нередко в мистериях представляло Фортуну с ее колесом, то возносящую, то низвергающую человека. В век Просвещения «фортуна» обретает еще одно значение, связанное с институтом фаворитизма: обрести монаршью благосклонность, что автоматически означало обретение и прочих благ. В пьесе Цветаевой обыграны оба смысла.
В списке персонажей следом за главным героем «Арманом-Луи графом Бироном-Гонто герцогом Лозэном» названа Госпожа Фортуна, «во образе маркизы де Помпадур – возраст Фортуны» [Цветаева, 1988. С. 57] 1. Божественность этого персонажа явствует из его принадлежности к вечности. Далее указан ряд дам возрастающей степени знатности: маркиза д’Эспарбэс, княгиня Изабэл-ла Чарторийская и королева Мария-Анту-анэтта. Еще важно отметить 16-летнюю Розанэтту и старую Нянюшку.
В первой картине мы застаем Нянюшку и Дворецкого, беседующих над колыбелью новорожденного «графчика» о смерти его матери и страданиях отца. Нянюшка баюкает младенца и сама засыпает, и в этот момент «влетает шелковым розовым вихрем» Фортуна. Когда все спят, она не таит своей божественной сущности: «моя крылатая стопа», «Как райские врата – мой взгляд,
1 Далее цитаты приводятся по этому изданию. В круглых скобках указаны страницы.
А говорят, что я слепа!» (С. 60). Она берет младенца под свое покровительство. Прощальный поцелуй Фортуны дарит ребенку «Страшнейший из даров – очарованье!» (С. 62). Старинный сюжет – сирота становится избранником божества.
Следующая картина называется «Боевое крещенье» – в отличие от первой, это сцена не благословения, а испытания, но не на бранном поле, а в будуаре. Описан этот будуар с редкой для Цветаевой детальностью, основной прием – гиперболизация. Множество мелочей, амуры, голубки, флаконы, зеркала, а главное – несметные потоки роз – в росписи потолка, узоре ковра, в вазах и гирляндах на стенах. «Сплошная роза». Ло-зэн и маркиза д’Эспарбэс играют в шахматы. Капризная и кокетливая маркиза объявляет Лозэну о своей измене, причем объясняет это законом самой любви: «Не может без шипов – шиповник, Любовь не может – без измен» (С. 63). Она учит, что любовь – это «вопрос... Умно отколотой булавки», «цепь розовых измен», причуда, игра. Она заставляет Лозэна, мучимого ревностью, услышать, что «Нет никакого завтра, – только нынче!» и что «все – взмах Слепого колеса Фортуны!» (С. 64).
Юная и прелестная маркиза вообще-то говорит чудовищные вещи. Мир, в котором нет больше различия между верностью и изменой, любовью и ее отсутствием – это мир накануне краха. Он пуст, лишен точек опоры и содержания, он весь – лишь во внешних приметах. И Цветаева делает эту оппозицию внешней роскоши и внутренней пустоты гипертрофированно сценически выраженной. Вот здесь начинает раскручиваться маховик колеса Фортуны, который к пятой картине сметет весь этот мир с его розами и маркизами.
Последний эпизод картины – маркиза, окунув розу в шампанское, кропит пеной кудри Лозэна, произнося над ним очередное заклятье, благословляя стать легендарным любовником. Таким образом, Лозэн превращается в мужское воплощенье божества любви. Маркиза д’Эспарбэс здесь сама воплощает Фортуну, является новым ее олицетворением. Она стала любовницей Лозэ-на, что напророчила над его колыбелью, и она же превращает его в любовника всей вселенной, причем без его собственных усилий: «Чтобы Елена – за него, Не он сражался – за Елену!» (С. 64).
Другими словами, Фортуна просто дарит ему всех женщин, наделяет его абсолютной, божественной властью над ними, от него не зависящей.
В третьей картине «Поздний гость» сценическая обстановка резко контрастирует с предыдущей. Вместо избыточной роскоши – «темный, мрачный покой», контраст сумрака и слабого света, черного и белого.
Это спальня польской княгини Изабэллы Чарторийской, которая полулежит в кресле «как прелестное привидение» – она больна. Постаревшая Нянюшка Лозэна рядом, поит лекарством и уговаривает, как ребенка. Княгиня отвечает коротко, равнодушно: «Я просто умираю», «На земле – две силы Меня еще удерживают: сын И солнце» (С. 67). Интонации ее меняются, как только она просит Нянюшку рассказать о детстве Лозэна. Обе счастливы предаться этой теме. Обстановка напоминает первую картину, где та же Нянюшка так же качала новорожденного, чья мать умирала. Этот сценический парафраз исподволь настраивает на ожидание чудесного визита. Песенка Нянюшки о позднем госте – почти ворожба, она буквально наколдовывает, вызывает Ло-зэна, который появляется с ее последними словами «через комнату – в вьюжном дорожном взметенном плаще – вихрем» (С. 69).
Его появление вызывает у Изабэллы «крик всего существа», который отнимает последние силы. Дальше она говорит мало, словно ослабев от счастья, и, глядя на Лозэ-на, закрывает глаза рукой, как от нестерпимого сияния. Ремарки к ее словам дважды говорят: «с улыбкой» и «блаженно». К словам Лозэна добавлено несколько раз: «смущенно», «невинно», «по-детски». Их беседа отнимает у нее последние силы, она говорит, что устала «от счастья и от кашля». И протягивает на прощание белую розу из стакана, потом возлагает ему на голову руки, призывая «радуги – розы – короны – Щедрым потоком на лоб и на локоны графа Бирона!». Изабэлла пророчит ему польский трон, говоря о Лозэне: «Он шел, куда вела его Фортуна» – что означает неотвратимость его судьбы (С. 72).
В этой картине Лозэна встречает новая ипостась Фортуны, так же напророченная, как и в первой картине: «Ты Фортуны сын И любовник» (С. 60). Здесь есть парафраз этого пророчества, Нянюшка вспоминает, что маркиза де Помпадур прозвала юного Лозэна «Амур и Марс». Как мы помним, маркиза здесь – это Фортуна с атрибутами и функциями Венеры; Амур был сыном Венеры, Марс – ее мужем, Лозэн совмещает их в себе. Возлюбленные Лозэна – это воплощения и разных женских типов, и самой Фортуны-Венеры, как общего архетипического начала. Здесь явлена ее материнская ипостась, причем удвоена – и тем, что Изабэлла мать Лозэнова сына, и тем, что в ее чувстве к Лозэну сильнее всего материнское начало. На вопрос Лозэна: «Я изменился?» она отвечает: «Вырос...», обращается к нему «Дитя!», «Мой маленький», добавляя: «Какая это боль и благодать “Мой маленький” сказать такому вот большому» (С. 71). Он рассказывает Изабэлле по ее настоянию о других любовницах, как мог бы рассказать матери. Она дважды отстраняется от его поцелуев, оберегая его от своей чахотки, со словами: «Когда-нибудь... поймешь... Что стоило мне нынче не принять Из уст твоих – последнего причастья». Финальные слова Изабэллы – о своей эпитафии: «Пусть будет так: “Ее любил Лозэн”. Не надо – Изабэллы Чарторийской» (С. 72). Она отказывается от собственного имени, потому что после смерти ее земного воплощения важно только то, что суть ее – вечная Фортуна. Кроме того, здесь сбывается пророчество ее предшественницы: имя Лозэн стало если не нарицательным, то достаточным для того, чтобы определять другую личность, заменять индивидуальность избранницы честью от самого факта избранничества.
В этой главе Лозэн неоднократно назван солнцем – так называет его Изабэлла; когда он спрашивает, похож ли сын на него, она подтверждает: «Как солнце»; когда говорит, что в жизни ее удерживают сын и солнце, можно эти слова понять и как синонимы, и как намек на Лозэна. Изабэлла на протяжении всей картины остается в кресле, Лозэн падает к ее ногам, она гладит его по лицу, возлагает руки ему на голову сверху. Собственно плотское начало из их любви в этой сцене убрано. Даже роза, которую ему подарила Изабэлла, – белая, что в данном контексте означает не столько чистоту, сколько бледность, обескровленность и близость смерти. Недаром в этой картине белый цвет – розы, снега, соседствует с упоминаемыми черным вороном, черными лакеями, которые вынесут Изабеллу, черным плащом.
Четвертая картина озаглавлена «Перо и роза» и являет, в свою очередь, контраст к предыдущей картине ночного «мрачного покоя». Это «один из маленьких покоев Ма-рии-Антуанэтты, в Трианоне». По конрасту с той зимой сейчас «в окне цветущие каштаны», сценическое пространство распахнуто, на небе видна вечерняя заря. Королева «в комедийно-сельском наряде» Молочницы, перед зеркалом прикалывает к корсажу «огромную алую розу». Здесь роза – не просто атрибут, она одно целое с прекрасной хозяйкой. В этой сцене разлиты жизнь, кокетство и трепет предвкушения. Мария-Антуанэтта спрашивает служанку, не дрожит ли роза, и говорит, берясь за сердце: «Здесь в груди гремит» (С. 74).
При этих словах возникает Лозэн в гусарской форме и с белым пером на каске. Королева при его появлении начинает щебетать, усаживает его рядом, расспрашивает о пустяках. Лозэн пытается повернуть беседу в политическое русло, он пришел говорить о польском троне, принес доклад, что вызывает не совсем шутливую досаду королевы и упрек: «Когда ж иных, Лозэн, от вас дождусь записок? – Шучу!» (С. 75). Лозэн пытается заинтересовать королеву политикой, она его – собой, и оба с равным неуспехом. Лозэн рассказывает, что Екатерина зовет его в Россию, и это вызывает отчаяние королевы, и говорит о своей мечте союза между «российским льдом – и розой Франции»: «Я новый герб провижу мировой: Орел! Орел с двойною головой Антуанэтты и Екатерины! Вселенской розы Кавалер, Хочу, чтоб розой был увенчан Розовый век» (С. 77). Антуанэтту это совсем не занимает, в отличие от пера на его каске, которое она просит в подарок. Взамен того, что ему действительно от нее нужно – участия в дипломатических делах – она предлагает придворные должности, а на единственную просьбу «умерить щедроты» к нему обещает их, наоборот, «утысячерить». Королева мечтала бы удовлетворить хоть одну просьбу Лозэна, но он просит ее лишь быть осторожней, на что слышит: «Вы горды, Вы королевски неподкупны!». Взамен подаренного пера Мария-Антуанэтта предлагает ему, конечно, розу со своей груди со словами: «Я б сердце вам дала взамен, – Но вы любовник всей вселенной». А его попытку поклясться в верности отклоняет тонкой остротой: «Вы столь забывчивы, сколь не- забвенны!» (С. 80) – данную строку Цветаева не случайно взяла из цикла «Комедьянт» к Ю. Завадскому.
В этой картине мы видим Лозэна, устоявшего перед женщиной, Лозэна – дипломата и политика. Устоял он потому, что в этот момент влюблен в идеал «вселенской розы», а не в живую королеву. Но его политика основана на романтике, на идеале рыцарского служения – и не одной избраннице. Он мечтает увенчать свое столетие, как возлюбленную – розой, грезит о «единовластье женском и вселенском». Антуанэтта недаром говорит: «Вы рыцарь и гордец». Слово «вселенная» – ключевое в этой картине, Ло-зэн – не только рыцарски служит «вселенской розе», он еще «любовник всей вселенной». Это гипербола, если иметь в виду число его возлюбленных, и это метафора, если понимать это высказывание как определение божественной, нечеловеческой любовной силы, могущественного очарования, воплощенного в Лозэне.
На протяжении картины Лозэн стоит перед королевой, которая сначала сидит на кушетке, затем встает, и в конце Лозэн опускается перед ней на колено. В этом мизансценическом варианте дан пластический рисунок его крушения. Лозэн повержен перед той, что трепетала перед ним. Эта мизансцена воплощает не просто противостояние героев, это ключевой момент его судьбы, сбывается предостережение Фортуны: «Тронной Розы бойся». Диалог героя с королевой – миг, когда Фортуна поворачивает колесо. Роза Франции отказывается его услышать, и будущее его обречено.
Пятая картина озаглавлена «Последний поцелуй» и разворачивается в одиночной тюремной камере в Сент-Пелажи. Этот момент – раннее утро, тьма перед наступлением первого дня нового, 1794 г. В темноте слышны только шаг Лозэна и его голос, произносящий приговор «беспутному году девяносто третьему» и собственной «шальной голове»: «Так вам и надо за тройную ложь Свободы, Равенства и Братства!» (С. 81).
Свет на сцене возникает с появлением «прелестной шестнадцатилетней девочки», открывающей дверь темницы со свечой в руке. На ней розовое платьице и белая косынка, она сама – как розовый бутон, что подтверждает ее имя – Розанэтта. Лозэн понимает, что ее явление – чудо, последняя роза из передника «Дамы Фортуны». Девочка прислана за последней волей осужденного, и он решает устроить «утренний ужин». Лозэн заказывает дюжину устриц, бокал вина, платок, зеркало, пудру, щетку для волос, и девочка убегает. За время ее отсутствия Лозэн произнес длиннейший за всю пьесу монолог, заметив, что сам «Не поклонник монологов. Быть Сумел без слова. За меня на славу Витийствовали шпага и глаза» (С. 84). И впрямь больше сценического времени было отдано его дамам, задачей Лозэна было не слово, а присутствие как таковое. Его сценическое бытие не ограничивается словесным его выражением, и скорее даже вербальная сторона роли – наименее значима. В таком случае чрезвычайно важен выбор актера на роль, недаром роль Лозэна изначально писалась для Ю. А. Завадского, – здесь учитывались и психофизические данные актера, и атмосфера зрительского обожания вокруг него.
В финальном монологе Лозэн утверждает, что с его казнью будет обезглавлен век, с которым вместе «мы на одном коне влетели в пропасть». Суть приговора им обоим: «Что, взвешен быв, был найден слишком легким» (С. 84). Это перифраза библейского текста из пятой главы книги пророка Даниила. Вся чарующая прелесть той цивилизации была несовместима с жизнью – с грубым топотом истории, с каким варвары всегда побеждают более утонченные культуры.
Лозэн думает разом и о судьбе своего века, и своих руках «белей чем снег», которые могут потрескаться от стужи. Отвлекает его возвращение Розанэтты, которая принесла в переднике все желаемое, добавив от себя кружевные манжеты и розу, которую вдевает ему в петлицу. Простодушные распросы девочки и ее немедленное желание бежать в суд его защищать, ее благородство и наивное восхищение заставляют сердце Лозэна дрогнуть, забыв о казни. Он утешает плачущую девочку, усадив к себе на колени, и объясняет, что происходящее – смерч, сон, «Чума Ума», поветрие дурных идей, дым. В этом круженье все оказывается своей противоположностью. Нет опоры, нет ясности, все полно смертельной угрозой – «Не только головы, дитя, Дитя – миры летят!» (С. 87). Колесо Фортуны раскручено до той стремительности, когда все становится неразличимо, все предметы и явления теряют весомость и значение. Этот монолог – смысловая рифма к монологу маркизы д’Эс-парбэс из второй картины. Но если та утверждала, что «Все – хорошо, все – пустота, все – взмах Слепого колеса Фортуны», то Лозэн в конце жизни пришел к утверждению, что здесь, «на земле измен», есть «две незыблемости», «две вечности»: это Род и Кровь, Цветок и Честь, Доблесть и Любовь. Первый ряд – приметы аристократизма – род, честь, доблесть. Второй – принадлежность царства Венеры: кровь – т. е. страсть, цветок – роза, ее эмблема, любовь – ее сущность.
Мы согласны с Р. Войтеховичем в том, что композиция пьесы, это нанизывание эпизодов, в каждом из которых герой встречается с посланницами Фортуны, отражает идею «колеса Фортуны» [Войхетович, 2005. С. 115]. Р. Войтехович видит в образе Фортуны приметы, сближающие ее с Венерой, и, таким образом, содержание жизни героя сводит исключительно к любви.
На наш взгляд, неоспоримые «венерины» приметы Фортуны вовсе не определяют суть пьесы как поиск любви. Здесь возникает тема рока, облаченного в легкомысленные одеяния, Фортуна – это женское лицо Фатума. Она не просто дарит любовь, она ведет героя от рождения к смерти.
Нам именно в неизменности героя видится ключ к пониманию пьесы. Среди круговерти стран, лиц, богатства и нищеты, могущества и падения неизменным остается только человек, сохраняющий верность себе. Лозэн верен себе, своей Фортуне, своему роду, и это для Цветаевой самое ценное. Герой есть ось колеса Фортуны – это главный смысл пьесы и главное открытие Цветаевой.
Присмотримся к герою: ни в какой момент он не являет того, что можно назвать соблазнением и тем более развратом. В первой картине он новорожденный, во второй – отвергнутый любовник, в третьей – примчавшийся к больной возлюбленной молодой отец, в четвертой – честолюбивый политик, в пятой, перед смертью – философ, сохраняющий мужество и утешающий влюбленную девочку. Его измен в пьесе нет, все встречи с дамами описаны в канун разлуки, наступающей не по его вине. Нигде не показаны стремления героя очаровывать и влюблять. Он не виноват в красоте и притягательности и пленяет невольно. Он неизменен на протяжении четырех картин, его неотразимое обаяние не меркнет от того, кто перед ним – королева или дочка привратника, даже возраст его словно не меняется. Божественность героя в том, что он не знает старости, как античный избранник богов, невинен в своем избранничестве и так же может быть повержен поворотом колеса Фортуны.
Именно поэтому Цветаева заставляет героя, в действительности примкнувшего к революционерам, произнести обличительный монолог про «тройную ложь Свободы, Равенства и Братства» и в последнюю минуту подтвердить собственный аристократизм как безупречную верность монархии. С приходом палача Лозэн предлагает ему последний стакан вина и, «вознося над головой розу», произносит: «Vive la Reine!». Это приветствие королеве означает больше, чем отречение от своих республиканских идеалов и предсмертную верность аристократическим. Лозэн прославляет не короля, а королеву не случайно – это все та же Дама Фортуна, вселенская Роза во всех ее обличьях, которой он повиновался всю жизнь и с чьим именем умирает.
Пьесе Цветаева предпослала эпиграф, переведя старинный французский девиз: «Господу – мою душу, Тело мое – королю, Сердце – прелестным дамам, Честь – себе самому» (С. 56). Это квинтэссенция содержания пьесы, ибо девиз рисует идеально благородного человека, чьим определяющим признаком является верность – Богу, присяге, любви и чести. Идеального рыцаря, полностью соответствующего всем названным критериям, и этим бесконечно прекрасного, Цветаева и рисует под именем Лозэна. Фигура так понимаемой безупречности и беспримесного аристократизма могла существовать лишь в жестко иерар-хичной, ясно и безоговорочно заданной структуре абсолютизма, что было уже неактуально исторически. Лозэн был ответом поэта на революционный идеал «простого человека», но отнюдь не последним образом в ее поисках истинного героя.
AS A POET’S ANTI-REVOLUTIONARY MANIFESTO
Список литературы Пьеса М. И. Цветаевой "Фортуна" как антиреволюционный манифест поэта
- Антокольский П. Г. Театр Марины Цветаевой // Марина Цветаева. Театр. М.: Искусство, 1988. С. 5-22.
- Войтехович Р. С. Психея в творчестве М. Цветаевой: эволюция образа и сюжета: Дис. … д-ра филос. по рус. лит. Тарту, 2005.
- Кудрова И. В. Путь комет: жизнь Марины Цветаевой. СПб.: Вита Нова, 2002.
- Мейкин М. Марина Цветаева: поэтика усвоения. М.: ДМЦ, 1997.
- Образцова А. Г. «..Наш с вами ангел..» // Мир искусств. Альманах. М., 1991.
- Разумовская М. Марина Цветаева: миф и действительность. М.: Радуга, 1994.
- Саакянц А. А. Марина Цветаева. Жизнь и творчество. М.: ЭллисЛак, 1997.
- Цветаева М. И. Неизданное. Записные книжки: В 2 т. М.: Эллис лак, 2000.
- Цветаева М. И. Театр. М.: Искусство, 1988.
- Швейцер В. А. Марина Цветаева. М.: Молодая гвардия, 2002.
- Эфрон А. С. О Марине Цветаевой: Воспоминания дочери. М.: Сов. писатель, 1989.