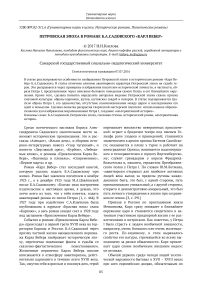Петровская эпоха в романе Б. А. Садовского "Карл Вебер"
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются особенности изображения Петровской эпохи в историческом романе «Карл Вебер» Б.А.Садовского. В статье отмечено влияние авантюрного характера Петровской эпохи на судьбу героя. Это раскрывается через принципы изображения писателем исторической личности, в частности, образа Петра I, представленное через описание бытового поведения самого Петра и его ближайшего окружения. Кроме того, сделана попытка определить авторское видение Петровской эпохи сквозь призму смеховой культуры: образы карликов, шутов, шутовских свадеб и похорон. В статье подчеркивается трагизм образа Петра I, его одиночество, отсутствие взаимопонимания между царем и наследниками его идей и помыслов. Сделана попытка раскрытия творческой мастерской писателя: использование образов-символов для изображения миропонимания Петра I, создание «альтернативной истории».
Б.а.садовской, петровская эпоха, смеховая стихия, исторический роман, альтернативная история
Короткий адрес: https://sciup.org/148102492
IDR: 148102492 | УДК: 009:82-311.6
Текст научной статьи Петровская эпоха в романе Б. А. Садовского "Карл Вебер"
Среди поэтического наследия Бориса Александровича Садовского значительное место занимают исторические произведения: это и рассказы «Анекдот», «Ильин день», и сборник историко-литературных новелл «Узор чугунный», и повести «Двуглавый орел», «Бурбон», «Лебединые клики», и романы «Приключения Карла Вебера», «Пшеница и плевелы», «Современник», «Первое марта» и др.
Роман «Карл Вебер» стал последней книгой, которую удалось издать Б.А.Садовскому при жизни. Роман был закончен писателем в ноябре 1923 г., а в декабре 1925 года М.А.Цявловский писал Б.А.Садовскому: «Близко зная настроения издательские в настоящее время, я думаю, что легче всего из того, что у тебя имеется, издать авантюрный роман из эпохи Петра» [1, с. 464]. В 1927 году при содействии С.А.Клычкова была опубликована в журнале «Красная новь» глава «Карлики», а весь роман увидел свет в 1928 году под заглавием «Приключения Карла Вебера».
События в романе «Приключения Карла Вебера» происходят в первой трети XVIII века на территории Европы и России. Б.А.Садовской через призму частной жизни вымышленного персонажа Карла Вебера изображает историческую эпоху, переплетая подлинные факты и судьбы со сказочно-фантастическим повествованием. Жизненные перипетии Карла Вебера вполне вписываются в атмосферу авантюризма, действительно царившего в течение всего XVIII века. Так, ощутив себя взрослым и покинув дом, герой переживает множество невероятных приключений: играет в бродячем театре под именем Голиафа роли злодеев и привидений; становится знаменосцем в армии принца Евгения Савойского; оказывается в плену у турок и работает на винограднике Орлика; нанимается надсмотрщиком и телохранителем к герцогу Виртембергско-му; служит гренадером у короля Фридриха-Вильгельма и, наконец, сержантом Преображенского полка у Петра I. По словам Ю.М.Лотмана, «авантюризм открывал для наиболее активных людей века выход за пределы рутины каждодневного быта, это был, с одной стороны, путь принципиально уникальный, а с другой стороны, открыто и демонстративно аморальный, это был путь личного утверждения в жизни при сохранении ее основ» [3, с. 291]
Приехав в Россию по приглашению князя Меншикова, Карл сразу попадает в ближайшее окружение царя и становится свидетелем и активным участником придворной жизни с ее развлечениями и интригами. Как известно, у Петра I была страсть к людям необычной внешности, например, очень большого или очень маленького роста. По-видимому, в этом выражалось свойство его натуры, стремящейся ко всему выходящему за рамки обыденности. Карл привлекает царя своим необычным внешним видом: он великан.
Обычай держать среди челяди людей экзотической наружности бытовал в XVII – XVIII веках при всех европейских дворах, обязательным их атрибутом были карлицы (карлы). И при дворе Петра I центральное место занимают карлики. Они служат развлечением во время пиршеств царя: поют, кувыркаются и пляшут. Внимание Б.А.Садовского при описании примет исторического быта нередко сосредоточено не на подробном описании деталей одежды, утвари, портрета, а на создании впечатления от увиденного глазами героя. Так и в сцене первого [для Карла Вебера – Н.К.] появления карликов Карл вначале слышит мелодичный звон, а затем видит вереницу карликов. Он фиксирует, как они идут, сколько их, где расположены бубенчики, издающие легкий звон, «записывает», что они поют, кто является их предводителем. Таким образом, писатель с помощью восприятия героя реконструирует историю повседневной жизни при дворе Петра I.
Важной приметой придворной жизни русских императоров и императриц являлись шуты. Они были непременным элементом института «государственного смеха» [термин Д.С.Лихачева]. Шут — не дурак, он исполняет определенную «должность» с четко обозначенной границей в отношениях с различными людьми. В правила этой должности-игры входили и известные обязанности, и известные права. Защищаемый древним правилом, шут мог сказать что-то нелицеприятное, но мог за это и пострадать, если выходил за рамки, установленные повелителем. В системе неограниченной власти роль такого человека, имевшего прямой доступ к властителю, была весьма значительна. Оскорблять шута опасались.
Б.А.Садовской главным действующим шутом при дворе Петра I делает Балакирева, ориентируясь на народные анекдоты о шуте Балакиреве [8]. Исторический Иван Алексеевич Балакирев официальным шутом стал в царствование Анны Иоанновны. О шуте Балакиреве в романе сказано, что «языка его все боятся» [1, с. 45], «главную соль его острот составляют грубость и неприличие» [1, с. 45], с ним же связан шутовской обряд венчания с козой и ритуал поздравления с новорожденным («приходить на зубок»).
Шутовские свадьбы, описанные и упомянутые в романе, также являются приметой Петровской эпохи. Из исторических источников известно подробное описание свадьбы царского карлика-шута Якима Волкова, состоявшейся в Петербурге в 1710 году, на которой венец над невестой держал сам царь, в знак своей особой милости [5]. По словам датского посланника Юста Юля, во время этой церемонии «кругом слышался подав- ленный смех и хохот, вследствие чего таинство более напоминало балаганную комедию, чем венчание или вообще богослужение. Сам священник вследствие душившего его смеха насилу мог выговаривать слова во время службы» [4].
Петр I заставляет великана Карла жениться на карлице. Венчание Карла и Зануды имеет элементы обряда «наизнанку», совершенного как бы понарошку, как пародия не только на само венчание, но и на исполнение обряда. Д. С. Лихачев отмечал, что характерные для эпохи Петра «маскарады, пародические и шутовские празднества, шутовские шествия <…> свадьба шута Тургенева в 1695 г., такое же празднество в 1704 г., свадьба шута Зотова в 1715 г. <…>» стали проявлением древнерусской смеховой стихии, пережившей Древнюю Русь и отчасти проникшей в XVIII и в XIX в. [2, с. 389.]. Д.С.Лихачев также указывал, что Петр сам часто сочинял программы шутовских празднеств. И Б.А.Садовской пишет о Петре как авторе шутовского обряда женитьбы шута Балакирева на козе.
В этом же «смеховом» ряду поступок Балакирева, объявившего, что его жена-коза родила. Во исполнении традиционного обряда весь двор ходил поздравлять шута с родинами. Гости выполняли привычные действия, клали деньги родильнице «на зубок», в непривычной обстановке: «Шут лежал на двуспальной кровати; рядом из-под стеганого одеяла выглядывала белая козья мордочка с позолоченными рогами. В богатой корзине верещал новорожденный. В домишке было светло и весело; горели цветные свечи, зеленели березки, изукрашенные лентами, мягко звенели бубенчики на шутовском колпаке и на рогах у козы» [1, с. 46–47].
Описание особенностей «смехового мира» Петровской эпохи завершается картиной похорон карлицы Зануды, в которых участвует царь, Карл, двадцать траурных карликов на ходулях, шут Балакирев, юноша Тредьяковский.
«Шутовские похороны», засвидетельствованные в исторических источниках об эпохе Петра, связаны с похоронами карликов Якима Волкова и Фрола Сидорова [6]. Это также были пародии на реальный обряд. Б.А.Садовской воспроизводит элементы петровской пародийной обрядности, упоминая и взвод преображенцев, и траурные одеяния, и красный гробик. Но изнаночный характер обряда объясняется не столько смеховой стихией, сколько пьяным характером церемонии, от чего возникает сочувствие к убитой
Зануде, а «смешить может только то, что не вызывает сочувствия» [2, с. 389].
Б.А.Садовской таким образом важной составляющей Петровской эпохи признает наличие в ней смеховой стихии, не потерявшей еще связи с древнерусским смехом как мировоззренческой категорией.
Россия в период правления Петра I дана исключительно в восприятии немца Карла Вебера. И здесь писатель следует определенным стереотипам, связанным с иностранным взглядом на Россию. Прежде всего, это снежная страна. Герой приезжает в Россию зимой, отмечает большое количество снега, хорошие зимние дороги, луну, которая светит как в тумане, и звон колокольчиков на упряжи лошадей знатных людей.
Приметой России является русская охота. И Карл Вебер делится своими впечатлениями об охоте на волков, признавая, что ему понравился обычай псковских мужиков ловить волков в сети, а потом избивать дубинками.
Россия – богатая страна, но в ней роскошь соединена с бедностью и грязью. В описании Петербурга, который уже двадцать лет стоит на берегу Невы, присутствует противоречивость: «чистенький, ровный городок; самое скверное в нем – климат, суровый и неприятный» [1, с. 43]. Герой отмечает стремление города быть похожим на Европу, но «грубость и неряшливость не дают забыть, что находишься в России» [1, с. 43]. В Петербурге Карл Вебер бывает в нескольких дворцах, но везде отмечает грязь: у князя Меншикова «мы ели на серебряных, давно не мытых тарелках. Щи дымились в деревянной с базарной росписью чашке» [1, с. 43], в царском кабинете «душно и смрадно, окна с двойными рамами, на полу сор, плевки и пепел» [1, с. 43]. Другой русский город – Нижний – напротив, представлен описанием природных красот и Печерской слободы. В описании природы преобладает простор, высь, многообразие птиц, чередование песен рыбаков с глухой тишиной. Автор подчеркивает вечность природного мира: «Высокий гористый берег Волги шумел вершинами столетних дубов и вязов» [1, с. 62] и его цикличность: «Волга весной превращалась в необозримое море» [1, с. 62]. Печерская слобода, хотя и тонет весной в грязи, но представлена в поэтической манере как сельская идиллия: «избушки, плетни, стадо, переливы пастушьих дудок, перекличка петухов да плавный благовест колоколен. По лужайкам бродят наседки с цыплятами, далеко зеленеют огороды, белоголовые ребятишки тешатся в козны и городки» [1, с. 63]. Б.А.Садовской противопос- тавляет столичный и провинциальный город, при этом в провинции совершенно не заметно влияние петровских реформ, нет ни намека на политические, экономические и иные преобразования. Тогда как в столице в разговорах Петра с Карлом или с Меншиковым присутствует ощущение происходящего перелома, но Петр в своих стремлениях представлен одиноким, его ближайшее окружение не разделяет высказываемых им идей и помыслов. Так, например, на фразу Петра, что «немцев в Россию надо побольше напустить. На немецких дрожжах взойдет моя империя» [1, с. 44] Меншиков сказал такое, что лицо Петра исказила страшная гримаса и он грубо выругался. Мечты Петра об открытии Южного полюса, где можно будет «создать совсем иные законы и жизнь иную», его предположения, что «жители полюса тайну земного счастья постичь сумели» [1, с. 54] вызывают у слушателей лишь зевоту.
Образ Петра становится центральной фигурой в «русских» главах романа. Он импульсивен, горяч, не изменяет принятым решениям, любитель женщин, доверчив и проницателен одновременно. Разгул и пьянство – составляющие его привычной жизни. Петр в изображении Б.А.Садовского трагический образ. Он оказывается, предан своим ближайшим сподвижником Меншиковым, уговорившим Карла налить вина царю из специально припасенной бутылки, что усугубило его болезненное состояние и приблизило смерть. Б.А.Садовской предлагает читателю свой сценарий смерти Петра I, тем самым создает его «альтернативную биографию» [термин А.К.Окладниковой].
Важное значение в раскрытии образа Петра I имеют в романе его страсть к часам, к их искусной механике. Он стремится познать и понять само течение времени: «сам заводит и чинит» [1, с. 52], «во дворце их много, хрустальных, золотых, бронзовых, деревянных; каждую четверть часа поднимается звонкая перекличка» [1, с. 44]. Однако петровский дворец с обилием часов и постоянным боем курантов превращается в символ уходящего времени. После тяжелой болезни Петр I принимает решение остановить часы, объяснив, что они «звонят, точно к покойнику» [1, с. 53]. В это же время после рождественских праздников Петр заводит разговор с Карлом Вебером о волшебной стране на Южном полюсе и говорит о своей приближающейся смерти и желании сделать великое дело. Остановив часы, Петр как будто пытается отсрочить время смерти, а с другой стороны, восприятие Рождества в религиозном сознании как начала новой светлой эры рождает в мыслях царя мечту о стране, в которой будут созданы «иные законы и жизнь иная», «открытие сей страны послужит ко благу человечества» [1, с. 54]. Как отмечал Ю.М.Лотман, «у Петра I мысль о смерти вызывала лишь обострение тех же самых государственных забот, которые занимали его и при жизни» [3, с. 313.] Недаром на холостом ужине у Меншикова перед своей смертью царь все время говорит о Южном полюсе.
Б.А.Садовской воссоздает картину повседневной жизни великого монарха, раскрывает его характер в быту и во взаимоотношениях со своими поданными и соратниками. Тезис, высказанный в начале повествования о России, – «Россия – хорошая страна» [1, с. 42] – то доказывается автором, то опровергается. Б.А.Садовской предоставляет читателю сделать самостоятельный выбор. Обращение к эпохе Петра I, ставшей переломной в истории российского государства, мечты Петра I о волшебной стране, в которой люди познали счастье, созвучны тому времени, в котором роман был написан. Петровская эпоха предстает в романе и смеховой стороной, и реальной действительностью, и сказочно-фантастическим Южным полюсом.
-
1. Садовской, Б.А. Лебединые клики. М., Советский писатель, 1990. 480 с.
-
2. Лихачев, Д.С. Историческая поэтика русской литературы. Смех как мировоззрение. СПБ., АЛЕТЕЙЯ, 1999. 508 с.
-
3. Лотман, Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века). СПб., Азбука, 2015. 603 с.
-
4. Юль, Ю. Записки датского посланника в России при Петре Великом // Лавры Полтавы. М., Фонд Сергея Дубова, 2001. С. 221–222.
-
5. Белозерова, Д.И. Карлики в России XVII–начала XVIII века // Развлекательная культура России XVIII–XIX вв. Очерки истории и теории. СПб., Дмитрий Буланин, 2000. С. 147–149.
-
6. Бердников, Л. Русский Галантный век в лицах и сюжетах. Kнига вторая: шуты, шутовство: http://litread.me/pages/536015/504000-505000?page=6/
-
7. Окладникова, К.П. Альтернативная биография: вопросы теории жанра: http://conf.sfu-
kras.ru/sites/mn2014/pdf/d01/s41/s41_006.pdf
-
8. Чеботарев, А.Ю. Иван Алексеевич Балакирев как персонаж русского фольклора // Петровское время в лицах. Материалы научной конференции. СПб., Изд-во Государственного Эрмитажа, 2004. С. 230.
-
PETRINE EPOCH IN THE NOVEL “KARL VEBER” BY B.A.SADOVSKOY
Список литературы Петровская эпоха в романе Б. А. Садовского "Карл Вебер"
- Садовской, Б.А. Лебединые клики. М., Советский писатель, 1990. 480 с.
- Лихачев, Д.С. Историческая поэтика русской литературы. Смех как мировоззрение. СПБ., АЛЕТЕЙЯ, 1999. 508 с.
- Лотман, Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII -начало XIX века). СПб., Азбука, 2015. 603 с.
- Юль, Ю. Записки датского посланника в России при Петре Великом//Лавры Полтавы. М., Фонд Сергея Дубова, 2001. С. 221-222.
- Белозерова, Д.И. Карлики в России XVII-начала XVIII века//Развлекательная культура России XVIII-XIX вв. Очерки истории и теории. СПб., Дмитрий Буланин, 2000. С. 147-149.
- Бердников, Л. Русский Галантный век в лицах и сюжетах. Kнига вторая: шуты, шутовство: http://litread.me/pages/536015/504000-505000?page=6/
- Окладникова, К.П. Альтернативная биография: вопросы теории жанра: http://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2014/pdf/d01/s41/s41_006.pdf
- Чеботарев, А.Ю. Иван Алексеевич Балакирев как персонаж русского фольклора//Петровское время в лицах. Материалы научной конференции. СПб., Изд-во Государственного Эрмитажа, 2004. С. 230.