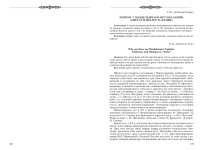Почему у Мандельштама нет посланий: адресат и диалог в «Камне»
Автор: Артмова Светлана Юрьевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Материалы конференции "Мандельштам и его время"
Статья в выпуске: 1 (32), 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме трансформации лирических жанров на примере смещения жанра послания в ХХ в. На материале посланий разных авторов делается вывод о том, что жанровая доминанта современных посланий - коммуникация вопреки невозможности.
Жанр, послание, коммуникация, смещение жанра в поэзии, адресат
Короткий адрес: https://sciup.org/14914474
IDR: 14914474
Текст научной статьи Почему у Мандельштама нет посланий: адресат и диалог в «Камне»
Прежде чем говорить о посланиях у Мандельштама, необходимо сказать несколько слов об особенностях посланий в XX в1. В посланиях этого периода существует, как минимум, три типа адресата (конкретный, обобщенный и условный), но при этом довольно часто отрицается возможность успешной коммуникации с любым из них. Послание И. Бродского, например, становится метатекстом, сообщающим о невозможности письма как коммуникативного события и адресата как получателя: «Генерал, я взял вас для рифмы к слову / “умирал”, что было со мною...» («Письмо генералу Z.») или «Все равно ты не слышишь, все равно не услышишь ни слова...» («Письмо к А.Д.»), В этом случае послание является «антижанром», т.к. основной признак жанра (коммуникация с названным собеседником) сначала (в заглавии) утверждается, а затем декларативно отрицается и заменяется автокоммуникацией2. Отрицание адресата в послании свидетельствует о невозможности коммуникации.
Примечательно, что в XX в. резко возрастает количество посланий, имеющих обобщенного («Литературным прокурорам» М. Цветаевой, «К читателю» И. Уткина) или фиктивного адресата (музе - «Что, Муза моя? Жива ли еще?..» М. Цветаевой, «Письма к стене» И. Бродского, «К Лире» И. Уткина).
Кроме того, в XX в. все более частотным компонентом заглавия становится слово-маркер жанровой разновидности: письмо, послание, открытка. При этом иногда такой маркер жанра усложняет читательские ожидания, предлагая либо синтез жанров (Б.Л. Пастернак «Песни в письмах, чтобы не скучала»; здесь и далее курсив мой - С. Л.), либо трансформацию жанра (В.В. Маяковский «Лилечка! Вместо письма»), В этом случае с помощью заглавия акцентируется внимание читателя не только на специфи- ке канала связи, но и на помехах (или «шумах»3), препятствующих общению. Послание становится не столько беседой с адресатом, сколько своего рода разговором с читателем о сложности разговора с собеседником, то есть метакоммуникацией.
Как видим, если на рубеже XVIII-XIX вв. послание воссоздавало ситуацию «идеального общения», то с течением времени оно все более выявляет невозможность достижения коммуникативного идеала. Уже у Лермонтова возникает тенденция к монологизации жанра послания4, а в XX в. отрицание возможности диалога с адресатом становится расхожим.
Так, О. Мандельштам в статье «О собеседнике» снимает вопрос о диалоге между автором и читателем, так как «письмо, равно как и стихотворение, ни к кому в частности определенно не адресованы»5. Возможно, именно поэтому Мандельштам не пишет ни одного «чистого» в жанровом отношении послания, доказывая собственный тезис о том, что «поэт связан только с провиденциальным собеседником»6.
При этом в книге стихов «Камень» наблюдается повышенная частотность местоимения Ты. Собеседник лишь намечается в посвящении («Царское село», посвящение - Георгию Иванову; «Петербургские строфы» - Н. Гумилеву), а в структуре текста никак не маркирован. Тексты, имеющие посвящение, не содержат обращения к конкретному адресату.
В «Камне» частотны обращения к адресату абстрактному, обращения как формально-условный прием монолога. Поэт обращается к абстрактным понятиям как к собеседникам, таким как: слово и Афродита («Silentium!», 16, здесь и далее стихи цитируются по изданию из серии «Литературные памятники» с указанием страниц), пустота («Я так же беден, как природа...», 17), небо («О небо, небо, ты мне будешь сниться...», 27) и «мировая туманная боль» («Воздух пасмурный влажен и гулок...», 22), «широкий ветер Орфея» («Отчего душа - так певуча...», 25), ночь («Раковина», 26), покойный лютеранин («Лютеранин», 37), твердыня Нотр-Дам («Notre Dame», 39), «О рассудительнейший Бах» («Бах», 43), Россия («Заснула чернь. Зияет площадь аркой...», 47), «Европа цезарей!., твоя таинственная карта» («Европа», 64), Дионис («Ода Бетховену», 67), ахейские мужи («Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», 73) и т.п.
Характерно для лирического героя «Камня» и обращение к себе самому во 2-м лице:
С притворной нежностью у изголовья стой И сам себя всю жизнь баюкай, Как небылицею своей томись тоской И ласков будь с надменной скукой (18).
Есть тексты (правда, очень немногочисленные), где диалог становится формальным приемом, основой структуры стихотворения:
О свободе небывалой
Сладко думать у свечи.
-
- Ты побудь со мной сначала, Верность плакала в ночи (71).
Имитация диалога интересна в том отношении, что это всегда диалог персонажей, а не диалог лирического субъекта с кем-либо. Именно имитация наличествует и в последнем стихотворении книги стихов - «Я не увижу знаменитой Федры...»(75):
И, словно из столетней летаргии Очнувшийся сосед мне говорит:
-
- Измученный безумством Мельпомены, Я в этой жизни жажду только мира;
Уйдем, покуда зрители-шакалы На растерзанье Музы не пришли!
Однако за такого рода диалогической структурой стоит все тот же принцип «провиденциального собеседника» при отсутствии собеседника реального.
Исследовать специфику монолога интересно на примере стихотворения «Я вздрагиваю от холода...»:
Я вздрагиваю от холода, -Мне хочется онеметь!
А в небе танцует золото, Приказывает мне петь.
Томись, музыкант встревоженный, Люби, вспоминай и плачь, И, с тусклой планеты брошенный, Подхватывай легкий мяч!
Так вот она, настоящая
С таинственным миром связь! Какая тоска щемящая, Какая беда стряслась!
Что, если, вздрогнув неправильно, Мерцающая всегда, Своей булавкой заржавленной Достанет меня звезда? (28).
Синкретизм Я (достанет меня звезда) и ТЫ (томись, музыкант встревоженный), нерасчеленимость «я» и «другого» образует монолог. Однако это монолог особого рода, монолог, «притворяющийся диалогом», направленный к собеседнику. О направленности такого типа писал М.Л. Гаспаров: «Книга тем и нужна, что позволяет пишущему выговориться ни перед кем, а читающему вообразить, что это направленный разговор именно с ним»7.
Если даже в «Камне» заявлены собеседники, то наблюдается их неравнозначность: Я либо больше Другого, либо меньше:
Образ твой, мучительный и зыбкий, Я не мог в тумане осязать.
«Господи!» - сказал я по ошибке, Сам того не думая сказать.
Божье имя, как большая птица, Вылетало из моей груди.
Впереди густой туман клубится, И пустая клетка позади (30).
Диалог с Господом невозможен, т.к. утратив бога (или имя бога, или логос, или слово), человек утрачивает себя.
Интуитивное ощущение лирики как монолога у Мандельштама обусловило отсутствие лирических посланий. Поэзия О. Мандельштама еще раз подчеркивает, что, несмотря на работы исследователей, в которых родовой чертой лирики указывается диалог8, лирика монологична. Дело не только в концепции Аристотеля, согласно которой «он (автор - СИ.) <.. > остается самим собой и не меняется»9, и даже не в общеизвестном тезисе М. Бахтина о том, что межсубъектные отношения «я» (автора) и «другого» (героя) в лирике не принимают диалогического характера10. Все зависит от того, как мы будем понимать диалог: как потенциальную ориентированность на «другого» или как структуру самого лирического текста, специфику поэтики. В первом случае диалогична вся литература, поскольку она ориентирована (как минимум) на читателя, во втором - диалог в лирике отсутствует, кроме отдельных жанров, в которых он воспроизведен с иными целями (например, в жанре «диалогов»). Чем больше исключений, которые выявил Б.О. Корман11 и о возрастании доли которых писал С.Н. Бройтман12, тем более очевидно, что основной корпус лирических текстов представляет собой если и диалог, то диалог поэта с самим собой, автокоммуникацию и авторефлексию, формально выраженную в структуре текста именно в монологе. Имитация диалога лишь подчеркнет отсутствие межсубъектности в лирике. Об этом очень точно сказал М.Л. Гаспаров: «Для меня в диалоге межсубъектного нет: я в диалоге только быстро меняюсь из субъекта в объект и обратно. При этом я - субъект, когда слушаю и от этого преобразовываюсь, - а не когда говорю и влияю. Так же можно преобразовываться и в общении с камнем или уважаемым шкафом»13.
Таким образом, не просто отражением тезиса о собеседнике и монологе в лирике, но его органическим воплощением становится книга стихов О. Мандельштама «Камень».
-
1 Артёмова С.Ю. Послание // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. М.,2008. С. 177-178.
-
2 Лотман Ю.М. О двух моделях коммуникации в системе культуры // Лотман Ю.М. Избранные статьи: в 3 т. Т. 1. Таллинн, 1992. С. 76-89; Levin Ju.I. Лирика с коммуникативной точки зрения // Structure of Texts and Semiotics of Culture. Paris, 1973. P. 177-195.
-
3 Левый И. Теория информации и литературный процесс // Структурализм: «за» и «против». М., 1975. С. 292.
-
4 Ермоленко С.Н. Лирика М.Ю. Лермонтова: жанровые процессы: автореф. дис. ... доктора филол. наук: 10.01.01. Екатеринбург, 1996. С. 22 и др.

-
5 Мандельштам О.Э. О собеседнике // Мандельштам О.Э. Камень. Л., 1990. С. 177. (Литературные памятники).
-
6 Мандельштам О.Э. О собеседнике // Мандельштам О.Э. Камень. Л., 1990. С. 179. (Литературные памятники).
-
7 Гаспаров М.Л. Записи и выписки. М., 2001. С. 235.
-
8 Козлов В.И. Здание лирики. Архитектоника мира лирического произведения. Ростов-на-Дону 2009.
-
9 Аристотель. Поэтика // Аристотель. Сочинения: в 4 т. Т. 4. М., 1984. С. 648.
-
10 Бахтин М.М. К философии поступка // Философия и социология науки и техники. М., 1986. С. 146.
-
11 Корман Б.О. Лирика Некрасова. Ижевск, 1978.
-
12 Бройтман С.Н. Русская лирика XIX - начала XX века в свете исторической поэтики: субъектно-образная структура. М., 1997.
-
13 Гаспаров М.Л. Записи и выписки. М., 2001. С. 20.
Список литературы Почему у Мандельштама нет посланий: адресат и диалог в «Камне»
- Артёмова С.Ю. Послание//Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. М., 2008. С. 177-178
- Лотман Ю.М. О двух моделях коммуникации в системе культуры//Лотман Ю.М. Избранные статьи: в 3 т. Т. 1. Таллинн, 1992. С. 76-89
- Levin Ju.I. Лирика с коммуникативной точки зрения//Structure of Texts and Semiotics of Culture. Paris, 1973. P. 177-195
- Левый И. Теория информации и литературный процесс//Структурализм: «за» и «против». М., 1975. С. 292
- Ермоленко С.И. Лирика М.Ю. Лермонтова: жанровые процессы: автореф. дис.... доктора филол. наук: 10.01.01. Екатеринбург, 1996. С. 22 и др
- Мандельштам О.Э. О собеседнике//Мандельштам О.Э. Камень. Л., 1990. С. 177. (Литературные памятники)
- Мандельштам О.Э. О собеседнике//Мандельштам О.Э. Камень. Л., 1990. С. 179. (Литературные памятники)
- Гаспаров М.Л. Записи и выписки. М., 2001. С. 235
- Козлов В.И. Здание лирики. Архитектоника мира лирического произведения. Ростов-на-Дону, 2009
- Аристотель. Поэтика//Аристотель. Сочинения: в 4 т. Т. 4. М., 1984. С. 648
- Бахтин М.М. К философии поступка//Философия и социология науки и техники. М., 1986. С. 146
- Корман Б.О. Лирика Некрасова. Ижевск, 1978
- Бройтман С.Н. Русская лирика XIX -начала ХХ века в свете исторической поэтики: субъектно-образная структура. М., 1997
- Гаспаров М.Л. Записи и выписки. М., 2001. С. 20