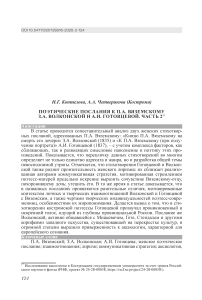Поэтические послания к П. А. Вяземскому З. А. Волконской и А. И. Готовцевой. Часть 2
Автор: Коптелова Н.Г., Четверикова А.А.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 2 (73), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье проводится сопоставительный анализ двух женских стихотворных посланий, адресованных П.А. Вяземскому: «Князю П.А. Вяземскому на смерть его дочери» З.А. Волконской (1835) и «К П.А. Вяземскому (при получении портрета)» А.И. Готовцевой (1837), - с учетом комплекса факторов, как сближающих, так и разводящих смысловое наполнение и поэтику этих произведений. Показывается, что перекличку данных стихотворений во многом определяет не только единство адресата и жанра, но и разработка общей темы невосполнимой утраты. Отмечается, что стихотворения Готовцевой и Волконской также роднит пронзительность женского лиризма: их сближает реализованная авторами коммуникативная стратегия, мотивированная стремлением поэтесс матерей предельно искренне выразить сочувствие Вяземскому отцу, похоронившему дочь; утешить его. В то же время в статье доказывается, что в названных посланиях проявляются разительные отличия, мотивированные контекстом личных и творческих взаимоотношений Волконской и Готовцевой с Вяземским, а также чертами творческих индивидуальностей поэтесс современниц, особенностями их миропонимания. Делается вывод о том, что в стихотворении костромской поэтессы Готовцевой прозвучал проникновенный и искренний голос, идущий из глубины провинциальной России. Послание же Волконской, активно общавшейся с Мицкевичем, Гете, Стендалем и другими корифеями западного искусства, существовавшей на перекрестке культур, в огромной степени выразило приверженность к аксиологии, характерной для европейского сознания.
П.а. вяземский, з.а. волконская, а.и. готовцева, женское поэтическое послание, взаимоотношения, лиризм, коммуникативная стратегия, аксиология
Короткий адрес: https://sciup.org/149148604
IDR: 149148604 | DOI: 10.54770/20729316-2025-2-124
Текст научной статьи Поэтические послания к П. А. Вяземскому З. А. Волконской и А. И. Готовцевой. Часть 2
1* Исследование выполнено в Костромском государственном университете за счет гранта Российского научного фонда (РНФ, проект № 24-28-00058, .
P.A. Vyazemsky; Z.A. Volkonskaya; A.I. Gotovtseva; women’s poetic messages; relationships; lyricism; communication strategy; axiology.
Дружба П.А. Вяземского и З.А. Волконской, начавшаяся в 1819 г., не прекратилась и тогда, когда «Северная Коринна» уехала из России в Италию в феврале 1829 г. Они продолжали поддерживать связь. В первые годы своей жизни в Италии княгиня живо интересовалась всеми новостями литературной жизни в России и сведениями об общих друзьях. О сердечной привязанности Вяземского к Волконской свидетельствуют письма поэта к жене, отправленные 23, 24, 25 мая, 1, 3, 8 июня, а также 18 июля и 19 августа 1832 г. В них он выражает искреннюю тревогу за здоровье княгини. Так, 23 мая Вяземский впервые сообщает жене:
Зенеида Волконская очень занемогла на дороге где-то уже в Германии. Здесь говорят, что возобновился прежний припадок сумасшествия, но Никита говорит, что просто нервы очень расстроены [Вяземский 1951, 367].
А 1 июня поэт уже с радостью пишет о том, что появилась надежда на выздоровление Волконской: «О Зенеиде последние известия утешительнее» [Вя- земский 1951, 376]. Он пристально следит и за перемещениями своей близкой знакомой, информируя жену 18 июля 1832 г. о том, что Волконская «возвратилась в Рим» [Вяземский 1951, 418].
Но в 1834 г. князь Вяземский и его семья сами собрались в срочную поездку в «вечный город». Вяземские узнали, что их семнадцатилетняя дочь Полина, крещенная под именем Прасковья, больна туберкулезом. Костромской приятель Вяземского Бартенев особенно выделял Пашеньку, как звали ее домашние, среди детей поэта. Так, в письме к жене от 1 июня 1832 г. Вяземский замечает: «Фаворитка Бартенева, кажется, Пашенька» [Вяземский 1951, 376]. Вяземские надеялись, что теплый климат Италии поможет Прасковье. Сохранились письма Вяземского к Волконской, где он делится новостями о болезни дочери и просит помочь устроиться его семье в Риме. Их приводит Арутюнова-Манусевич, скрупулезно реконструировавшая трагическую историю пребывания Вяземских в Италии в своей книге «Жизнь в письмах. Княгиня Зинаида Волконская». Она отмечает: «Вяземские прибыли в Рим 12 декабря 1834 года. Все уже было приготовлено для них Волконской» [Арутюно-ва-Манусевич 2017, 88]. Исследовательница приводит и письмо благодарного Вяземского, высоко оценившего чуткость Волконской [Арутю-нова-Манусевич 2017, 88].
В письме к жене от 26 июля 1834 г. Пушкин, всей душой сочувствующий Вяземским, пересказал свой вещий сон, в котором увидел преждевременную смерть Прасковьи [Пушкин 1986, 68]. Действительно, Пашеньке становилось все хуже, и 23 марта 1835 г. она умерла. Три дня спустя ее похоронили в Риме на некатолическом кладбище для иностранцев Тестаччо. Подробно изучив все записи из дневника Вяземского, связанные с этими тяжелыми днями, Арутюнова пишет:
В отличие от обычно подробных и остроумных дневниковых записей Вяземского, его римский дневник лаконичен: лишь строчек двадцать охватывают пять месяцев, проведенных в Риме <…> Неделей позже, 22 апреля 1835 года, он отправился в долгое обратное путешествие в Россию, чтобы вернуться к обязанностям вице-директора департамента внешней торговли Министерства финансов. Последняя запись в римском дневнике князя приоткрывает его бесконечную усталость и безысходную тоску [Арутюнова-Манусевич 2017, 90].
Свое послание, обращенное к Вяземскому, Волконская создает почти сразу после отъезда князя из Италии, в мае 1835 г. Несомненно, стихотворение «Князю П.А. Вяземскому на смерть его дочери» вызвано к жизни искренним стремлением поэтессы утешить друга и выразить ему свои соболезнования:
В стенах святых она страдала, Как мученица древних лет; Страдать и жить она устала;
Уж все утихло... девы нет! [Волконская 1835, 113].
В своем послании Волконская утверждает, что юная княжна страдала, как «мученица древних лет», как раннехристианская святая. По ее мнению, смерть стала для Прасковьи избавлением от мучений.
Волконская с реалистической точностью описывает могилу Прасковьи на кладбище Тестаччо, где действительно росли кипарисы, считающиеся в Италии деревьями траура [Тестаччо… 1999, 6]:
И кипарис непеременной
Стоит над девственной главой, Свидетель тайны подземельной, И образ горести родной! [Волконская 1835, 113].
В то же время смерть девушки в «вечном городе» поэтесса оценивает и в мистико-религиозном ключе. Поэтому в контексте ее стихотворения символ кипариса отсылает и к библейской традиции, причисляющей это дерево к растениям, присутствующим в райском саду [Макарий (Веретенников) 1998– 2023]. Его смысловое наполнение в интерпретации Волконской восходит также к раннехристианским представлениям о том, что из кипариса были сделаны Ноев ковчег и Голгофский крест, что кипарисы символизируют веру в загробную жизнь [Макарий (Веретенников) 1998–2023].
Таким образом, в поэтическом послании Волконской далекое прошлое и настоящее, вечное и бренное переплетаются. А католический Рим становится связующим звеном между ними, своеобразным земным раем. Поэтесса не просто сакрализирует Рим, но воспринимает его как духовную родину. Согласно философии Волконской, принявшей в 1835 г. католичество, Прасковья обретает свой «вечный город» и теперь становится его частью и, стало быть, приближается к Богу.
Сочувствуя горю Вяземского, Волконская осознает: его скорбь усиливает и то обстоятельство, что дочь умерла далеко от дома, что она похоронена на чужой земле. В конце стихотворения княгиня утешает своего друга и обещает, что она будет заботиться о могиле Пашеньки (и свое обещание Вяземскому Волконская сдержала). Автор послания символически удочеряет умершую Прасковью: «Ты едешь... но ее могилу / Оставишь мне не сиротой…» [Волконская 1835, 113]. Но при этом она понимает, что не в силах до конца унять душевную боль и тревогу отца, потрясенного утратой и похоронившего Пашеньку на чужбине. Волконская подчеркивает, что непременно будет хранительницей памяти Вяземского, но при всем желании она все-таки не сможет целиком восполнить его отсутствие на могиле дочери в Риме. Для выражения тонких нюансов своей философской мысли в финале поэтесса использует весьма эффективный художественный прием: она завершает свое послание Вяземскому диалектичным соотношением образов «сильного солнца» и замещающего его гораздо более слабого «луча месяца» (даже не луны!), являющегося только отражением солнечного света: «Так солнца заменяет силу / Луч месяца в ночи святой!» [Волконская 1835, 113].
Представляется, что отголоски ключевых мотивов стихотворного послания Волконской к Вяземскому звучат в письмах Н.В. Гоголя к П.А. Плетневу от 2 ноября 1837 г. и к П.А. Вяземскому от 25 июля 1838 г. Автор «Ревизора» сблизился с «северной Коринной» в Риме в 1837 г. и, по-видимому, испытал ее сильное влияние, отчасти определившее его восприятие Италии. В письме к Плетневу Гоголь выражает свое восхищение Италией и так же, как Волконская в своем стихотворном послании к Вяземскому, сакрализирует пространство Рима, обнаруживая в нем концентрированное присутствие божественных сил: «Что за земля Италия! Все прекрасно под этим небом <…>. Нет лучшей участи, как умереть в Риме; целой верстой здесь человек ближе к божеству» [Гоголь 1952, 114].
В более позднем письме к Вяземскому (1838 г.) прозаик, восторгаясь Римом, отмечает, что свое отношение к нему сформировал во многом благодаря оценкам своего адресата [Гоголь 1952, 156]. Одновременно он не просто рассказывает о своих посещениях могилы Прасковьи, но, по сути, воспроизводит и варьирует некоторые мотивы из поэтического послания Волконской Вяземскому. В частности, Гоголь пишет:
Еще не так давно был я вместе с княгиней Зин<аидой> Волхонской на знакомой и близкой вашему сердцу могиле. Кусты роз и кипарисы растут; между ними прокрались какие-то незнакомые два-три цветка. Я уважаю те цветы, которые вырастают сами собою на могиле. Мне все кажется, что это речи усопшего к нам, но мы глядим, силимся и не можем понять их. Потом я был еще один раз с одним москвичом, знающим вас, – и вновь уверился, что эта могила не сирота: в Италии нельзя быть сиротою ни живущему, ни усопшему [Гоголь 1952, 156–157].
Как видим, в проникновенных и искренних признаниях писателя можно обнаружить образно-мотивные вкрапления, почерпнутые из стихотворения Волконской, адресованного Вяземскому: упоминание «кипарисов», растущих в месте захоронения Прасковьи; метафорическое высказывание о том, что ее могила «не сирота». Однако впоследствии Гоголь, не переставая любить Италию, в определенной мере дистанцировался от Волконской, настойчиво пытавшейся обратить в католичество не только умирающего И. Виельгорского, но и его самого [Арутюнова-Манусевич 2017, 33–34, Манн 2012, 219–221].
Стихотворение Готовцевой, как свидетельствует сохранившаяся в РГАЛИ рукопись, было создано на два года позднее послания Волконской, в 1837 г. По возвращении из Италии князь Вяземский отправляет Готовцевой свой портрет. Это и стало одним из импульсов для написания стихотворения:
«К П.А. Вяземскому (При получении портрета)»
Вы ль это, князь? И ваш ли образ незабвенный Встречаю снова я чрез восемь длинных лет! Как утешителен ваш сладостный привет, Как вы украсили мой уголок смиренный.
С каким участием смотрю я на черты, В которых грусти след так ясно отразился, И смею разгадать те думы и мечты, Которыми ваш взор печальный омрачился.
Пусть гордый Рим хранит священный милый прах –
Он чуждую страну случайно украшает.
Но кроткий дух его не там – он в небесах,
Над милой родиной, над вами он летает [Готовцева 2005, 51]
Большую часть послания занимает описание внешнего облика Вяземского, преображенного болью и утратой. Вести от него, пробудившие воспоминания о былом, несомненно, обрадовали Готовцеву. Но она замечает в чертах Вяземского, запечатленных на портрете, «грусти след» и догадывается о причинах его тоски, их общей тоски. Готовцевой была знакома боль утраты, ей тоже приходилось терять детей. Спустя многие годы именно общее горе объединило Готовцеву и Вяземского.
О смерти дочери Вяземского в послании Готовцевой говорится немного, в самом конце стихотворения. Причем свои мысли поэтесса выражает полунамеками, что можно объяснить чувством такта. Чуткая и деликатная, Готовцева понимает, что боль от произошедшего у потрясенного горем Вяземского-отца так и не прошла. Не упоминается даже имени Прасковьи, используются существительные «дух», «прах», местоимение «он» («он в небесах…», «над вами он летает…»), будто для того, чтобы не тревожить покойную понапрасну.
Не известно, читала ли Готовцева послание Волконской, которое было опубликовано в журнале «Московский наблюдатель» в 1835 г. Но мнения поэтесс разделились. В стихотворении Готовцевой, в отличие от произведения Волконской, не описывается могила Прасковьи. Напротив, в представлении Готовцевой «кроткий дух» дочери Вяземского все еще жив. То, что прах находится в чужих краях, – лишь случайность. По мнению Готовцевой, душа ушедшей из земного мира Пашеньки не принадлежит «гордому Риму», она возвратилась туда, где находится все для нее самое дорогое, – на «милую родину». Девушка умирает, но обретает вечную жизнь на небесах, и теперь она, точно ангел-хранитель, присматривает за отцом и всегда будет рядом.
Примечательно, что автограф этого стихотворения, хранящийся в РГАЛИ [Готовцева 1837а], отражает следы авторской правки Готовцевой. Во второй строке процитированной строфы поэтесса сначала написала слово «печально», то есть в тексте стихотворения было: «Он чуждую страну печально украшает». Однако затем Готовцева заключила слово «печально» в скобки, а сверху надписала окончательно выбранное слово «случайно», по всей видимости, наиболее точно выражающее ее мысль [Готовцева 1837а].
Причем создается впечатление, что в своем послании Готовцева полемизирует со стихотворением Вяземского «К Риму». Хотя поэтесса не могла еще видеть его напечатанным. Впервые это произведение Вяземского было опубликовано только в 1862 г. в собрании стихов поэта с названием «В дороге и дома» (в разделе «Италия») [Вяземский 1862]. В послании «К Риму» феномен «вечного города» Вяземский постигает сквозь призму своей личной трагедии. Сущность исторического и культурного пространства Рима, которое поэт воспринимает как «кладбище столетий и времен», открывается ему рядом с местом захоронения любимой дочери:
Не кисти, не резца, не зодчества созданья, В которых смелый дух избранников живет. Нет, мимо их, меня таинственно зовет Тот мирный уголок, где ранняя могила Родительской любви надежду схоронила. Здесь Рим сказался мне, здесь понял я, в слезах, Развалин и гробниц его и плач и прах;
Здесь скорби стен его, державной и глубокой,
Откликнулся и я печалью одинокой! [Вяземский 1862, 202].
Вяземский признается, что горе сблизило его с Римом. К этому городу поэт относится теперь как ко второй родине: «Нет, скорбью, о мой Рим, сроднился я с тобой! / Сочувствие к тебе и внутренней, и чище: / Родное место есть мне на твоем кладбище» [Вяземский 1862, 202]. В своем послании Готовцева как будто опровергает именно эти признания Вяземского. В последней строфе своего стихотворения она жестко разводит понятия «родина» и «чужбина». Готовцева считает: не стоит слепо поклоняться Риму, в котором, по ее мнению, воплощено духовное пространство «чуждой страны» [Готовцева 2005, 51]. Она уверена: душа умершей в Риме Прасковьи неизбежно вернулась на «милую родину», в Россию [Готовцева 2005, 51]. И эту уверенность Готовцева стремится передать страдающему отцу Вяземскому.
В коллекции И.С. Зильберштейна хранится, судя по всему, более поздняя редакция упомянутого послания Готовцевой [Готовцева 1837b]. В ней после второй строфы есть два ряда отточий. Ранее этот прием поэтесса использовала в послании к Пушкину, чтобы акцентировать некую энигматичность стихотворения, обозначив фигуру умолчания. Тем самым она подчеркнула своеобразную загадочную недосказанность, уведенную в подтекст произведения.
Есть вариативность и в третьей строке третьей строфы, идущей после отточий. Вместо фразы «Но кроткий дух его не там – он в небесах» следует такое лирическое высказывание: «Но кроткий дух ее не в Риме – в небесах». Как видим, в третьей строфе этой редакции лексема «Рим» повторяется дважды, в первой («Пусть гордый Рим хранит священный милый прах») и третьей строках. Причем – во втором случае с коннотацией отрицания: «Но кроткий дух ее не в Риме – в небесах». В результате впечатление отторжения от Рима, как «чуждой страны», выраженное в стихотворении, усиливается.
Наконец, во второй редакции послания Готовцевой к Вяземскому присутствует дополнительная, четвертая строфа, которой нет в автографе, вошедшем в тетрадь поэтессы, хранящуюся в РГАЛИ:
В минуты тяжкие, когда ни слов, ни вздохов нет, И изнеможет дух под бременем печали, В усладу горести нам небеса послали
Утраченных друзей таинственный привет [Готовцева 1837b].
В процитированной строфе происходит смена лирического субъекта: вместо «я» появляется «мы». Это сигнализирует о нарастании степени философского обобщения в финале стихотворения. Готовцева сближает трагедию Вяземского с собственными переживаниями – трагедией матери, которой приходилось терять детей. В заключительных строках четвертой строфы поэтесса характеризует свой возобновившийся стихотворный диалог с Вяземским как утешение, посланное свыше и просветляющее безмерные земные страдания, выпавшие на долю обоих: «В усладу горести нам небеса послали / Утраченных друзей таинственный привет».
Таким образом, перекличку произведений Волконской и Готовцевой определяет не только единство адресата и жанра, но и разработка общей темы невосполнимой утраты. Стихотворения Волконской и Готовцевой одновременно роднит пронзительность женского лиризма: их отчасти сближает реализованная авторами коммуникативная стратегия, мотивированная общим стремлением поэтесс-матерей предельно искренне выразить сочувствие Вяземскому-отцу, потерявшему дочь; утешить его.
В то же время в названных произведениях проявляются разительные отличия, мотивированные контекстом личных и творческих взаимоотношений Волконской и Готовцевой с Вяземским, а также чертами творческих индивидуальностей поэтесс-современниц, особенностями их миропонимания.
Очевидно, что в посланиях Волконской и Готовцевой во многом обозначилась полярность в их философских размышлениях о жизни и смерти, о родине и чужбине. Обе поэтессы подчеркивают неразрывную связь князя Вяземского с душой умершей дочери. Но каждая из них находит для бессмертной души Прасковьи свое сакральное пространство. Для Готовцевой – это православная Россия, где она родилась, жила, писала стихи. Согласно ее представлениям, даже земная кончина не способна разорвать связь души с родным краем, с коренной духовной почвой. Для княгини Волконской родина – это прежде всего свобода. И в России, и в Европе княгиня чувствовала себя как дома. Но окончательным ее выбором стал католический Рим, воспринимаемый Волконской как место средоточия искусств, как колыбель гармонии и красоты, как пространство, наполненное божественной энергией. Здесь она чувствовала себя намного свободнее, чем в России. Отсюда выраженное в ее послании к Вяземскому убеждение, что душа Прасковьи стала частью «вечного города», где она приблизилась к Богу.
В послании костромской поэтессы Готовцевой прозвучал проникновенный и искренний голос, идущий из глубины провинциальной России. А стихотворение Волконской, существовавшей на перекрестке культур, активно общавшейся с Мицкевичем, Гете, Стендалем и другими корифеями западного искусства, выразило приверженность поэтессы к аксиологии, связанной главным образом с европейским сознанием.