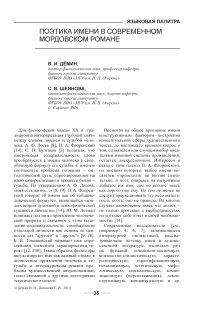Поэтика имени в современном мордовском романе
Автор: Дмин Василий Иванович, Шеянова Светлана Васильевна
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Языковая палитра
Статья в выпуске: 2, 2014 года.
Бесплатный доступ
Прослежены принципы конструирования антропонимической системы и ее функционирования в современном мордовском романе. Определена роль имени как важнейшего компонента поэтики образа и конструктивного фактора художественного целого. На ономастическом материале выявлены специфика индивидуального стиля писателей и своеобразие концептуально-авторской картины мира.
Имя, семантика имени, функция имени, поэтическая антропонимика, литературный антропоним
Короткий адрес: https://sciup.org/14723085
IDR: 14723085
Текст научной статьи Поэтика имени в современном мордовском романе
С. В. ШЕЯНОВА, кандидат филологических наук, доцент кафедры финно-угорских литератур
ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н. П. Огарёва»
(г. Саранск, РФ)
Для философской мысли ХХ в. традиционна интерпретация глубокой связи между словом, именем и судьбой человека. А. Ф. Лосев [8], П. А. Флоренский [14], С. Н. Булгаков [3] полагали, что мистическая содержательность слова преобразуется в имени человека в своеобразную формулу его судьбы. С именем соотносится проблема познания – онтологической сути, спроецированная на идею самореализации в процессе бытия – судьбы. По утверждению А. Ф. Лосева, «имя есть жизнь…» [8, 14 ]. П. А. Флоренский говорит об имени как об «общечеловеческой формуле», являющейся «конденсатором духовной и психофизической сущности личности» [14]. Ю. М. Лотман понимает под ним «проявление человеческой природы и связанное с этим выделение индивидуальности, самобытности отдельной личности как основы ее ценности для “другого” и “других”» [9, 36 ]. Б. В. Томашевский называет имя «простейшим элементом характеристики героя» [12, 200 ]. Таким образом, философы актуализируют имя как важный «знак» в личностном проявлении человека и его судьбе, а литературоведы решают проблемы художественной антропонимики, тесно связанной с другими категориями эстетического целого.
Несмотря на общее признание имени конструктивным фактором построения концептуальной сферы художественного текста, до настоящего времени вопрос о том, сознателен или случаен выбор писателями именной системы произведений, остается дискуссионным. Интересен в связи с этим подход П. А. Флоренского, по мнению которого, выбор имени писателем «происходит не вполне сознательно, и поэт, опираясь на интуитивно добытое им имя, сам не вполне знает, как дорого оно ему. Но тем не менее не следует преувеличивать эту несознательность поэта: оно не правило. Во многих случаях вдохновение знает, что делает, – не только протекает с необходимостью, но и отдает себе отчет в своей необходимости» [14].
Современные исследователи [см., например: 4; 6; 7], занимающиеся литературной ономастикой, рассматривающие поэтику имен в художественной литературе, выделяют ряд их функций: социально-оценочную, контекстно-стилистическую, характерологическую, идентификационную, номинативную, эстетическую, мифологическую, символическую, композиционную (перспективация), декон-структивную, концептуальную и др.
®
Финно – угорский мир. 2014. № 2
В мордовском литературоведении работ, посвященных художественной антропонимике, практически нет. Между тем антропонимическая лаборатория национальных писателей, пути и способы создания имен персонажей – весьма интересная литературоведческая проблема, решение которой способствует выяснению различных аспектов поэтики произведения, выявлению специфики индивидуально-авторского стиля, репрезентации национальной картины мира.
Ономастическое поле художественного текста способно отражать историю, культуру, мировосприятие людей посредством индивидуальных образов. В полной мере это прослеживается в романе К. Абрамова «Пургаз» [1], в котором имя кроме художественно-эстетической выполняет информационно-познавательную функцию – представляет сведения о социально-бытовой и культурной сфере деятельности древних эрзян. Например, читатель узнает, что после замужества настоящее имя женщины в доме мужа забывали и давали ей новое имя, наиболее полно раскрывающее черты ее характера, внешний облик или положение в семье (Вежава – «самая младшая женщина (жена)», Мазава – «красивая женщина», Рузава – «русская женщина» и др.). Роль антропонимов в пространстве романа заключается, таким образом, не только в различении (идентификации) индивидов, но и в создании художественного образа и формировании идейно-образного поля повествования.
В художественных произведениях возможны «субъективные толкования значения собственных имен, основанные на субъективных ассоциациях автора. В собственных именах, как и в нарицательных, писатели воспринимают и стилистическое, и эмоционально-оценочное содержание» [7, 81]. Такое толкование имен встречаем и у К. Абрамова. Например, положительных героев писатель наделяет именами Парава («добрая женщина»), Мазава («красивая женщина»), персонажей с отрицательными чертами – Кижеват («злой, сердитый»). Через имя прозаик стремится восстановить внутреннюю суть персонажа, ибо «в имени – средоточие всяких физиологических, психических, феноменологических, логических, диалектических, онтологических сфер. <…> ...имя есть необходимый результат мысли, и только в нем мысль достигает своего высшего напряжения и значения» [8, 96–97]. Особенности поэтической антропонимики романа подводят к определенной стилизации старины и национального колорита. К. Абрамов реанимирует ряд древнемордовских имен (Пургаз, Обран, Ушмай, Промза, Руша, Миянза, Арис, Тишай и др.), что воссоздает специфику исторической эпохи, мировосприятие древних людей. Поэтика имени в произведении коррелирует с общей концептуальной идеей романа, подчеркивает самобытность культуры эрзянского народа, отражает специфику национального менталитета.
Именная система романа А. Доронина «Кочкодыкесь – пакся нармунь» («Перепелка – птица полевая») [5] мотивирована, на наш взгляд, художественной логикой произведения, воссоздающего жизнь мордовской деревни рубежа 1980–1990-х гг. В тексте распространены общеупотребительные имена героев, имеющих прототипов, – Иван, Павел, Игорь, Трофим, Ольга, Виктор и др. В данном случае характерологическая роль имени, сознательный подбор автором антропологической лексики подвергаются сомнению, однако не будем забывать высказывания П. А. Флоренского об интуитивном характере творческого процесса. «Имя – тончайшая плоть, посредством которой объявляется духовная сущность», – утверждает мыслитель [14]. Интересным представляется образ Розы Рузавиной. Из контекста ясно, что героиня отличается внешней и внутренней красотой, она добросердечна, отзывчива, одновременно для нее характерны женская гордость, стремление вырваться из бытового «заточения». Сущность героини совпадает с семантикой имени – красивого, благородного цветка. Художественная логика имени в данном случае, на наш взгляд, раскры- вает глубину нравственности человека. Таким образом, правомерно говорить о характерологической функции имени, одновременно выступающего отражением собственно-авторских личностных измерений сущности героини.
В романе «Перепелка – птица полевая» наблюдается и иная функция поэтического антропонима. Правомерно говорить о резком контрасте между семантикой имени персонажа и его характером. Древнееврейское имя Захар определяет своего носителя как человека добродушного, уравновешенного, лишенного негативных эмоций, честного, ответственного, участвующего в решении чужих проблем. Характер и поведение алчного, жестокого лесничего Захара Киргизова абсолютно контрастируют с вышеупомянутыми определениями. Очевидна деконструктивная функция, на ономастическом уровне имеющая, по мысли Н. В. Васильевой, различные выражения [4]. В анализируемом романе деконструкции подвергается не имя, а связь «имя – характер». Призванный заданием имени творить добро во имя людей, Киргизов на каждом шагу разрушает, уничтожает, убивает живое. Заложенная в имени программа не смогла реализоваться. Отсюда – мифологический мотив отмщения: за содеянное зло природа отбирает жизнь у лесничего.
В антропонимическом пространстве романа А. Брыжинского «Вечкеманть тюсонзо эсензэ» («У любви краски свои») [2] отсутствуют откровенно «говорящие» и «кричащие» имена, хотя, как писал в свое время Ю. Н. Тынянов, «в художественном произведении нет неговорящих имен. Все имена говорят. Каждое имя, названное в произведении, есть уже обозначение, играющее всеми красками, на которые только оно способно» [13, 186–187 ]. Автор использует распространенные имена Петр, Наташа, Иван, Лиза, Виктор, Борис, Анна, имена представителей старшего поколения Перфил, Тимофей, Серафим, Даниил, Марфа, Варлам. Однако в тексте встречаются и редко-употребительные
Владислав, Руфина, Фаина. Возможно, редкость уже подразумевает индивидуализацию героев. В случае с Руфиной Романовной – это единственное средство инициализации персонажа. Имя главного героя Петра Паксяськина найдено точно, беспроигрышно. В переводе с греческого Петр означает «крепкий как камень, скала». Имя ассоциируется с постоянством, надежностью; его носитель – уверенный в себе, трезвомыслящий человек. Фамилия Паксяськин соотносится с трудовым началом, народной жизнью, близостью к земле. Прослеживается связь между именем, чертами характера героя и его судьбой – быть крепким хозяином на земле, с упорством добиваться намеченной цели.
Антропонимическая лаборатория национальных писателей, пути и способы создания имен персонажей – весьма интересная литературоведческая проблема, решение которой способствует выяснению различных аспектов поэтики произведения, выявлению специфики индивидуальноавторского стиля, репрезентации национальной картины мира.
В антропонимическую формулу «Фаина Викторовна» входят распространенное отчество и колоритное имя, которое перетягивает на себя акцент. Фаина в переводе с греческого – «сияющая». Этимология имени в романе оправдывает себя: Фаина – скромная девушка, сияющая внутренней чистотой. Имя фонетически созвучно слову «фауна», соотносясь со всем естественным, беззащитным, хрупким. В конце романа героиня, подвергшаяся насилию со стороны бандитов-рэкетиров, умирает при родах. Таким образом, имя Фаина раскрывает не только психологический склад характера, но и судьбу женщины. В тексте чаще встречается форма Фаина Викторовна, через нее проявляются
Финно – угорский мир. 2014. № 2 социальный статус героини (учительница), ее восприятие другими персонажами, номинация выражает определенную позицию нарратора. Форма имени «может выражать близость, дистанци-рованность, отчужденность» [4, 140 ]. В данном случае, на наш взгляд, формула «Имя + Отчество» в авторской речи демонстрирует некую неоправданную «холодность» рассказчика к своей героине. Об этом же свидетельствует и тот факт, что писатель не дает Фаине возможности раскрыться, реализовать свои интенции; в авторском восприятии она закрыта. Романист, бесспорно, уважает ее как личность, однако не видит супругой Паксяськина и из-за этого «игнорирует». Процесс эволюции взаимоотношений Петра и Фаины также не находит логической реконструкции.
В романе «У любви краски свои» применяются прозвища: Афродита, Зевс, Аполлон, Дионис, Апостол. По справедливому замечанию Ю. А. Карпенко, «прозвища ярко эмоциональны и экспрессивны, ибо обладают эмоциональнооценочной функцией. Они наглядно демонстрируют процесс перехода познанных и отобранных фактов объективной реальности в эмоциональнооценочные художественные образы… Но в то же время прозвище не превращается в абстрактное понятие, оно сохраняет предметность и зримость образа, поскольку качество человека обозначено через конкретный и знакомый коллективу воспринимающих предмет. Так, в прозвищах постоянно осуществляется движение от конкретного к абстрактному и через него вновь к чувственноконкретному, предметно зримому» [6, 35]. В романе А. Брыжинского прозвища являются самостоятельными образованиями, они не зависят от официальных имен персонажей, не выносимых в ономастическое пространство романа, обладают, несомненно, экспрессивнооценочной семантикой. Литературные теонимы, вызывающие в сознании читателя определенные мифологические образы и представления, подвергаются деконструкции, в результате которой превращаются в прозвища с негативноироническим оттенком. Таким образом, имя в романе «У любви краски свои» выполняет номинативную, идентификационную, характерологическую, де-конструктивную функции, представляет особенности общественной жизни периода начала 1990-х гг. – макромир произведения, реализующийся в частных судьбах.
В философской мысли ХХ в. с именем соотносится проблема познания экзистенциальной сути человека. Данная функция имени очевидна в романе Е. Четвергова (Нуяня Видяза) «Ванине» («Ванечка») [10], в котором поэтическая антропонимика позволяет познать духовное строение личности и в целом выйти на идею произведения. Е. Четвергов называет героя Ванечкой на протяжении всего повествования, даже когда он предстает перед читателем зрелым мужчиной, и выносит его имя в название романа. В данном случае перед нами – не уменьшительно-ласкательная форма имени, а символ обмельчавшей души, нравственно опустошенного, низменного существа. Выведение антропонима в название романа определяет его концептуальную роль в художественном русле произведения. В романе «Ванечка» имя отражает не только психологический склад и нравственную суть персонажа, но и его судьбу и линию поведения.
В романе «Здесь и Там» («Тесэ ды Тосо») [11] Е. Четвергов, на наш взгляд, сознательно подбирает имена своих героев – Вияна и Валдай. Прежде всего, по фонетическому звучанию имена состоят из гласных, сонорных и звонких звуков, созвучны по звуковой инструментовке. Автор использует не употребительные в настоящее время имена, скорее всего они являются плодом его вымысла.
Имя Вияна, – вероятно, производное от эрзянского слова «вий» («сила»). Связь между именем и судьбой героини прямая – это сильная женщина, которая пережила много горя, смерть близких, потерю родных людей, разочарование, обман, одна- ко внутренняя сила помогла ей выстоять, не ожесточиться, не сломаться. В данном случае имя становится характерологической категорией: характер диктует имя. Сущность Валдая также совпадает с семантикой, заложенной в имени: слово «валдо» на эрзянском означает «светлый, радостный, яркий; перен. символ истины, счастья, свободы» [15, 101]. Однако роль имени в романе «Здесь и Там» не ограничивается характерологической функцией – оно становится гносеологической и концептуальной категорией, выступает, таким образом, полифункциональной поэтической составляющей эпического целого.
В современном мордовском романе в основном используются имена с «погашенной» этимологией, вряд ли писатели сознательно ориентировались на их значения в греческом или латинском языке. Однако соотношение имени, характера и судьбы героев таково, что характер диктует имя, а имя – характер и судьбу. Мордовскому роману присуще «предсказание именем судьбы» персонажей. Национальные писатели используют концептуальные, характерологические, социально-оценочные, номинативные, композиционные возможности имени, подчиняют эстетическую систему антропонимов решению жанрово-стилевых, художественно-этических задач. Функциональная полифония имени проявляется на разных уровнях содержательной и формальной структуры романного слова.
Список литературы Поэтика имени в современном мордовском романе
- Абрамов, К. Пургаз: кезэрень пингеде евтнема/К. Абрамов. -Саранск: Мордов. кн. изд-вась, 1988. -480 с.
- Брыжинский, А. Вечкеманть тюсонзо эсензэ: роман на морд.-эрзя яз./А. Брыжинский. -Саранск: Мордов. кн. изд-вась, 2004. -320 с.
- Булгаков, С. Н. Философия имени/С. Н. Булгаков. -2-е изд-е. -СПб.: Наука, 2008. -448 с.
- Васильева, Н. В. Собственное имя в мире текста/Н. В. Васильева. -2-е изд-е, испр. -М.: ЛИБРОКОМ, 2009. -224 с.
- Доронин, А. Кочкодыкесь -пакся нармунь: роман на морд.-эрзя яз./А. Доронин. -Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1993. -380 с.
- Карпенко, Ю. А. Имя собственное в художественной литературе//Филол. науки. -1986. -№ 4. -С. 34-40.
- Ковалевская, Е. Г. Слово в тексте художественного произведения//Аспекты и приемы анализа текста художественного произведения: межвуз. сб. науч. тр. -Л., 1983. -С. 70-87.
- Лосев, А. Ф. Философия имени/А. Ф. Лосев. -М.: Академ. проект, 2009. -300 с.
- Лотман, Ю. М. Мир собственных имен//Лотман Ю. М. Семиосфера. Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров. Статьи. Исследования. Заметки. -СПб., 2010. -С. 11-148.
- Нуянь Видяз (Четвергов, Е.). Ванине: роман на морд.-эрзя яз./Нуянь Видяз. -Саранск: Мордов. кн. изд-во, 2011. -204 с.
- Нуянь Видяз (Четвергов, Е.). Тесэ ды Тосо: сермасо роман//Нуянь Видяз. Тесэ ды Тосо: сермасо роман, келей евтнема ды евтнемат. -Саранск, 2013. -С. 3-180.
- Томашевский, Б. В. Теория литературы. Поэтика: учеб. пособие/Б. В. Томашевский; вступ. ст. Н. Д. Тамарченко; комм. С. Н. Бройтмана при участии Н. Д. Тамарченко. -М.: Аспект Пресс, 2003. -334 с.
- Тынянов, Ю. Н. Литературный факт//Тынянов Ю. Н. Литературная эволюция. Избранные труды/сост., вступ. ст., комм. Вл. Новикова. -М., 2002. -С. 167-188.
- Флоренский, П. А. Имена [Электронный ресурс]/П. А. Флоренский. Режим доступа: http://www.magister.msk.ru/library/philos/florensk (дата обращения: 02.01.2014).
- Эрзянско-русский словарь: ок. 27 000 слов/под ред. Б. А. Серебренникова, Р. Н. Бузаковой, М. В. Мосина. -М.: Рус. яз.: Дигора, 1993. -803 с.