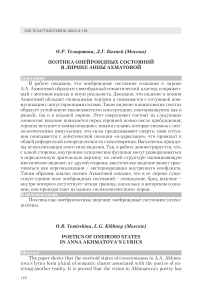Поэтика онейроидных состояний в лирике Анны Ахматовой
Автор: Темиршина О.Р., Кихней Л.Г.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 3 (66), 2023 года.
Бесплатный доступ
В работе показано, что онейроидные состояния сознания в лирике А.А. Ахматовой образуют своеобразный семантический кластер, сопряженный с мотивом выхода в иную реальность. Доказано, что видение в поэзии Ахматовой обладает сновидными чертами и связывается с ситуацией коммуникации с потусторонними силами. Такое видение в ахматовских текстах образует устойчивую квазисюжетную конструкцию, повторяющуюся как в ранней, так и в поздней лирике. Этот сверхсюжет состоит из следующих элементов: видение появляется перед героиней ночью после пробуждения; героиня вступает в коммуникацию с иными силами, которые связаны с психологическими импульсами; эти силы предсказывают смерть; сама ситуация описывается с дейктической позиции «я-адресации», что приводит к общей референтной неопределенности стихотворения. Вычленены принципы психологизации этого типа видения. Так, в работе демонстрируется, что, с одной стороны, внутренние психические функции могут разворачиваться в определенную зрительную картину, по своей структуре напоминающую мистическое видение, а с другой стороны, мистическое видение может трактоваться как персонализация / экстериоризация внутреннего конфликта. Таким образом, анализ поэзии Ахматовой показал, что в ее лирике существует единое поле онейроидных состояний - сновидение, бред, видение -внутри которого отсутствует четкая граница, поскольку в авторском сознании, они произрастают из одного «психологического» корня.
Поэтика сна, онейропоэтика, видение, онейроидные состояния, психопоэтика
Короткий адрес: https://sciup.org/149143529
IDR: 149143529 | DOI: 10.54770/20729316-2023-3-118
Текст научной статьи Поэтика онейроидных состояний в лирике Анны Ахматовой
Поэтика сновидения неоднократно становилась объектом пристального внимания литературоведов. Литературные сновидения изучались в теоретическом ракурсе [Теперик 2007] и рассматривались как отдельная се-миосфера художественной литературы [Нагорная 2004; Савельева 2013]; исследователями вычленялись типы и функции сновидений как в лирике [Сергеев 2002; Изотова 2005; Вьюшкова 2012], так и в эпосе в проекции на жанрово-нарративные схемы текстов [Федунина 2013]. Совокупным результатом этих работ следует считать приближение к созданию единой терминологической парадигмы, пригодной для анализа поэтики сновидения, ср. такие термины, как «онейросфера» [Нагорная 2004], «онейротоп» [Теперик 2007], «гипнология» [Цивьян 1993] и др.
Одной из важнейших проблем, красной нитью проходящей через многие научные работы, посвященные анализу литературного сновидения, оказывается проблема отграничения сна от иных гипноидных состояний. В некоторых исследованиях это разграничение соблюдается четко (см. обстоятельную и логически непротиворечивую классификацию подходов к литературному сновидению в монографии О.В. Федуниной [Федунина 2013]), в иных – происходит смешение [Нагорная 2004]. И в самом деле, как отделить снобдение от тонкого сна или же от сновидного расстройства сознания, если во всех этих состояниях присутствует продуктивные элементы сновидения?
Мы полагаем, что в отдельных случаях эти состояния следует представлять градуально, как сферы частично пересекающиеся, но не полно- стью тождественные. Такой исследовательский подход возможен и даже необходим, если рассматривать сновидение как фрагмент поэтической семантики. В этом контексте необходимо признать теснейшую связь сновидения с другими онейроподобными состояниями на уровне структуры, ибо для бреда / галлюцинаций / видений характерно то же «замыкание» сознания на себя «с помощью индивидуальных валентностей и значимостей» [Пашковский, Пиотровский, Пиотровская 2015, 58]. Именно эти резко индивидуальные системы смысловых валентностей и формируют как сдвинутый мир сновидений, так и «реальность» галлюцинации.
Тяготение исследователей онейропоэтики к крупным теоретическим обобщениям парадоксальным образом привело к тому, что индивидуальная онейрология многих авторов, для которых сновидческий код являлся принципиально значимым, – подробно не изучалась. К числу таких авторов относится Анна Ахматова.
Есть несколько работ, посвященных теме сна в творчестве Ахматовой. Так, в статье В.В. Кудасовой намечена бинарная оппозиция сна / бессонницы [Кудасова 2000], в исследовании Т.Т. Уразаевой предложен компаративистский аспект рассмотрения сновидческих мотивов [Уразаева 2002], в работе Г.П. Козубовской дан достаточно полный свод ахматовских текстов с семантикой сна/бессонницы, а также проанализирован ряд важных аспектов сновидческого «бытия» поэтессы, его креативные потенции и психоэмоциональные функции [Козубовская 1997]. О сновидческих мотивах упоминают и другие ахматоведы (см. [Михайлова, Снигирева 2021; Куликова 2011]), особенно в тех случаях, когда речь заходит об энигматических и мистических аспектах ахматовского творчества. Однако тема далеко не исчерпана – остался ряд неразрешенных вопросов, связанных с семантикой и поэтикой снов, видений, пограничных состояний, ставших объектом и предметом ахматовской лирической рефлексии. Эту исследовательскую лакуну мы и попытаемся заполнить в настоящей статье.
В лирике Ахматовой мотивно-тематический комплекс сна / сновидения тесно сопрягается с онейроподобными состояниями видения, бреда, воспоминания. Отсюда в качестве гипотезы исследования выдвинуто предположение о структурно-функциональном сходстве этих онейропо-добных модусов сознания. Так, с одной стороны, они выполняют одну функцию, связанную с процессом и результатом выхода за пределы некоего очерченного сознанием локуса и проникновением в иную реальность (подсознательную / мистическую), а с другой стороны, они демонстрируют сходную семантическую дистрибуцию, связываясь с одними и теми же сюжетными ситуациями. Разница же между этими психологическими регистрами заключается в уровне сознательного контроля – максимальном при воспоминании, минимальном – при сновидении и бреде.
Отсюда и специфика исследуемого предмета : в статье сон и сновидения, видения, бред рассматриваются как составляющие единого кластера онейро-идных состояний, которые в отдельных случаях могут перетекать друг в друга.
Семантические соотношения, формируемые в рамках этого кластера, как показывает проведенный анализ, оказываются устойчивыми и постоянными, что свидетельствует об их большом смысловом весе в рамках авторской семантики. Отсюда цель работы: выявить систему устойчивых авторских связей, в которые входит сон / сновидение, видения, воспоминания, бред, и реконструировать их семантическую функцию в рамках модели мира Ахматовой.
Сон в ранней лирике: фольклорный код
В ранней лирике Ахматовой феномены сна и сновидения часто соотносятся с матримониальной тематикой и интерпретируются в фольклорном аспекте. Так, именно в духе народной культуры сон трактуется в сборнике «Вечер». Ср. в стихотворении «Обман»: «Кто сегодня мне приснится / В пестрой сетке гамака?» [Ахматова 1990, 34]. Или в более позднем стихотворении 1916 г., включенном в книгу «Белая стая»: «Все обещало мне его: / Край неба тусклый и червонный / И милый сон под Рождество…» [Ахматова 1990, 87]. В целом такие соположения являются стандартными, они в лирике Ахматовой образуют некий устойчивый топос, генетически связанный с фольклорным кодом. Однако уже в «Вечере» благостные матримониальные сны – редкость. Гораздо чаще сон входит в иное сопряжение, он ассоциируется со смертью.
В этом случае сновидение – прямо или метафорически – соотносится с мотивом распада и умирания. Так, в «Первом возвращении» сон отчетливо связывается с семантикой мертвенности и концом мира:
Пять лет прошло. Здесь все мертво и немо, Как будто мира наступил конец.
Как навсегда исчерпанная тема, В смертельном сне покоится дворец. [Ахматова 1990, 25]
«Смертельный сон» также может представать как «последний сон», ср. контекст: «Чтобы мне легко одинокой / Отойти к последнему сну» [Ахматова 1990, 25].
Семантика «смертельного сна» в «Вечере» обычно трактуется в метафорическом контексте и приписывается тем или иным деталям пейзажа / ландшафта. В отдельных случаях мотив сна, подобного смерти, осложняется предчувствием беды. Ср. этот комплекс в стихотворении «Сад»:
И солнца бледный тусклый лик – Лишь круглое окно;
Я тайно знаю, чей двойник Приник к нему давно.
Здесь мой покой навеки взят Предчувствием беды <…> [Ахматова 1990, 41]
Видение как пространство коммуникации с иными силами
Семантический каркас визионерских текстов. Связка «смерть – сон» может разворачиваться в некий топос, формирующий пространство измененного состояния сознания. Яркий пример такого сдвинутого пространства находим в стихотворении «Три раза пытать приходила…», которое разительным образом отличается от ранних сновидений и предвосхищает сюжетику поздней Ахматовой.
Главная особенность этого стихотворения заключается в том, что здесь сон как состояние и сновидение как результат этого состояния противопоставлены видению, которое происходит наяву.
Сама семантическая структура этого стихотворения является своеобразной антитезой классическому «стихотворению-сновидению». Во втором случае композиционно-сюжетной рамой текста оказывается маркеры модуса реальности / ирреальности происходящего: засыпание – описание самого сновидения в регистре ирреальности – пробуждение. Так, например, у Г. Гейне в одном из стихотворений-сновидений из цикла «Сновидения» в начало текста выводится мотив засыпания («Я видел странный, страшный сон» [Гейне 1956, 6]), а в финале следует пробуждение («Я вскрикнул – и проснулся вмиг» [Гейне 1956, 9]). У Ахматовой же, напротив, стихотворение начинается с фиксации страшного сновидения и пробуждения! Ср.: «Я с криком тоски просыпалась…» [Ахматова 1990, 39].
То, что происходит с лирической героиней далее, вписывается в модус не сновидения, а видения, которое в лирике Ахматовой практически всегда антитетично связывается со сном. Героиня, уже пробудившись от кошмара, видит некую сущность, которая предсказывает смерть. Ср.: «Я с криком тоски просыпалась / И видела тонкие руки / И темный насмешливый рот» [Ахматова 1990, 39].
Антитеза видения и сновидения в лирике Ахматовой устойчива (см. об этом ниже). При этом, с одной стороны, сновидение выступает фоном для видения (видения обычно происходят в ночное время после пробуждения), а с другой стороны, видение от сновидения отличается своей референтной неопределенностью, которая стала основой суггестивной поэтики поздней Ахматовой.
Размытость предметной основы текста ярко проявляется уже в этом раннем стихотворении. О семантической диффузности свидетельствует прежде всего сдвиг коммуникативной интенции от «ты-адресации» к «я-адресации» исключительно характерный для поэзии ХХ в. (см. об этом: [Ковтунова 1986, 179–188]). Этот сдвиг предполагает «интериоризиро-ванную» точку отсчета: то, что кажется понятным и известным автору, не «ословливается» для читателя, что провоцирует принципиальную неопределенность предметной соотнесенности текста.
Именно эту референтную неопределенность мы и обнаруживаем в стихотворении Ахматовой. По намеченному сюжету сна некто приходит к лирической героине («Три раза пытать приходила»), обвиняет ее («Ты с кем на заре целовалась…»), предсказывает кому-то смерть («Кого ты на смерть проводила, / Тот скоро, о, скоро умрет») [Ахматова 1990, 39]. Общая неопределенность референтной перспективы текста приводит к неопределенному субъектно-местоименному дейксису: предметная отнесенность субъекта, обозначенного через местоименный комплекс «кого <…>, тот», оказывается неясной.
Смысловая диффузность предметной основы соседствует в этом стихотворении с особым пониманием пространства видения. Как правило, это пространство интересует Ахматову не как нечто самоценное, но как топос коммуникации с некими потусторонними силами, предсказывающими смерть: пришедшая сущность говорит с лирической героиней и сообщает ей о том, что некто должен погибнуть.
В принципе Ахматова здесь следует фольклорной трактовке видений, которые, как правило, предполагают контакт с иномирными силами (как демоническими, так и сакральными). Однако эта фольклорная ситуация Ахматовой переосмысляется – лирическая героиня в сновидении контактирует не с умершими, но с некоей психологической интереоризирован-ной сущностью, по-видимому, имеющей отношение к совести. Так, в финале Ахматова все-таки дает ключ к стихотворению и называет таинственную пришедшую гостью: «О, ты не напрасно смеялась, / Моя непрощенная ложь» [Ахматова 1990, 39]. В этом, кажется, и заключается отличие этого раннего текста от более поздних стихотворений, где любые ключи к видениям отбрасываются, местоименный дейксис оказывается принципиально диффузным, а сами стихотворения-видения становятся «шкатулкой» с двойным дном. Тем не менее уже здесь Ахматова как бы моделирует смысловой «слепок» видения как он есть, не считая нужным прикреплять нарратив к предметному миру, что указывает на суггестивный потенциал ее ранней поэзии.
Таким образом, в стихотворении «Три раза пытать приходила…» выстраивается определенная семантическая конструкция:
-
(1) перед героиней предстает некое видение,
-
(2) видение появлялся ночью, после пробуждения,
-
(3) видение включает в себя элемент коммуникации с иными силами,
-
(4) видение описывается как референтно неопределенное,
-
(5) сущность, пришедшая к героине, каким-то образом связана с внутренними психологическими импульсами (вина, предательство),
-
6) сущность, пришедшая к героине, соотнесена со смертью – предсказывает смерть.
Обозначенные элементы, взятые как некая сверхсюжетная совокупность, формируют наиболее полную семантическую структуру визионерских стихотворений Ахматовой, максимально ярко проявившуюся в раннем стихотворении «Три раза пытать приходила…»; в других более поздних текстах, соотнесенных с топосами сна и видения, отдельные звенья этой цепи, могут быть опущены, однако сам визионерский сюжет все же проступает достаточно ясно.
Так, в стихотворении «Отрывок» (входит в сборник «Четки») появляются контуры именно этого сюжета. В стихотворении нет мотива сна, однако другие элементы описанного нарратива остаются, что делает «Отрывок» своеобразным контекстуальным двойником стихотворения «Три раза пытать приходила…».
В «Отрывке», как и в стихотворении «Три раза пытать приходила…», происходит сдвиг коммуникативной интенции от «ты-адресации» к «я-а-дресации», что инициирует установку на изображение некоего фрагмента внутренней действительности. При этом если в стихотворении «Три раза пытать приходила…» эта намеренная фрагментарность проявлялась только на уровне композиции и сюжета, то здесь она акцентируется в самом заголовке текста – «Отрывок».
Установка на описание внутреннего фрагмента действительности – видения, разворачивающегося перед взором лирической героини – провоцирует плавающую предметную соотнесенность обоих текстов. Так, в случае с «Отрывком» читателю не ясно какая сущность скрывается под неопределённым местоимением «кто-то». Ср.: «…И кто-то во мраке дерев незримый, / Зашуршал опавшей листвой» [Ахматова 1990, 54]. При этом в «Отрывке» эта неопределённость выражена намного ярче, чем в стихотворении «Три раза пытать приходила…», ибо в «Отрывке» Ахматова не дает читателю ключа к тексту и не называет сущность (в то время как в стихотворении из «Вечера» в финале происхождение этой сущности раскрывается).
Тем не менее соположение этих текстов, по-видимому, позволяет заполнить лакуну: скорее всего, под местоимением «кто-то» также «прячется» некая персонифицированная эмоция, о чем свидетельствует дальнейшее развитие этого сюжета. Так, в обоих текстах пространство видения сопряжено с ситуацией коммуникации с иным, что обозначено через введение в текст прямой речи некоей сущности, обращенной к героине. При этом данная коммуникация носит отчетливо негативный характер и связывается с мотивом обвинения. Однако в первом случае героиня виновна в несчастье, произошедшем с любимым («Кого ты на смерть проводила…» [Ахматова 1990, 39]), во втором случае, напротив, любимый виновен в том, что происходит с героиней («Что сделал с тобой любимый…» [Ахматова 1990, 51]). Как видим, в обоих стихотворениях конфликт психологический, внутренний.
Дополнительная связь этих двух текстов проявляется также и в том, что этот конфликт сопряжен со смертью героя (прямым образом в стихотворении «Три раза пытать приходила…», см. выше) и героини (косвенно в стихотворении «Отрывок»: «Грудь мертва под острой иглой…» [Ахматова 1990, 54]).
Сходная смысловая структура возникает и в стихотворении «“Я пришла тебя сменить сестра…”». Так, во-первых, все происходящее разворачивается в модусе «почудилось / привиделось» («И все чудилось ей…» [Ахматова 1990, 68]). Во-вторых, основой композиции текста становится диалогически разыгранный нарратив: протагонист вступает в диалог с двойником, сущностью некоего иного мира (первая часть текста построена как диалог). В-третьих, здесь есть неопределенный нарратив, характерный для таких стихотворений: участники диалога предметно не обозначены. В-четвертых, в стихотворении снова появляется мотив вины, который в сновидческом тексте фиксировался нами и раньше («Я не буду тебя винить…» [Ахматова 1990, 68]), В-пятых, иномирная сущность самой героиней связывается со смертью («Ты пришла меня похоронить…» [Ахматова 1990, 68]).
Не все элементы этого сверхсюжета могут реализовываться одновременно, ближней периферией этого комплекса можно считать стихотворение «А! Это снова ты. Не отроком, влюбленным…» («Белая стая»), где появляется четыре мотива из вышеобозначенного комплекса.
В стихотворении имплицитно возникает тема рокового видения, которое можно трактовать как посещение тенью лирической героини. Так, в позднем варианте этого текста, персонаж, к которому обращается субъект речи, назван тенью: «Ты тень от тени той, ты дуновенье ночи» [Ахматова 1990, 380]. Соответственно саму сюжетную ситуацию стихотворения можно трактовать как приход некой сущности из иного мира, в статусе которой здесь выступает уже не персонифицированная совесть / вина, но мертвец.
Тем не менее мотив предательства и вины здесь также присутствует, более того, этот комплекс формулируется практически также, как и в стихотворении «Отрывок». Ср.:
Ты спрашиваешь, что я сделала с тобою, Врученным мне навек любовью и судьбою. Я предала тебя. <…> [Ахматова 1990, 77]
Вспомним, что в «Отрывке» обвиняющий голос использует практически те же «формулировки»: «И крикнул: “Что сделал с тобой любимый, / Что сделал любимый твой!”» [Ахматова 1990, 51].
Видение в стихотворении «А! Это снова ты. Не отроком, влюбленным…» соотнесено с коммуникацией: тень обращается с обвинительной речью к героине. И, наконец, как и в других текстах «визионерского» комплекса, мотив предательства здесь осложняется мотивом смерти: «Так Ангел смерти ждет у рокового ложа» [Ахматова 1990, 77].
Сон – явь. Отдельного комментария требует семантическая диспозиция, повторяющаяся во многих визионерских стихотворениях Ахматовой. Речь идет о намеренном противопоставлении пространства сна и видения. Уже в стихотворении «Три раза пытать приходила…» героиня видит нечто после пробуждения. Эта же композиционная последовательность возникает и в таких текстах, как «Вижу, вижу, лунный лук…» и «Слух чудовищный бродит по городу…». В этих стихотворениях героиня не спит, а наблюдает некие потусторонние события наяву. Ср. контексты.
«Вижу, вижу лунный лук…»:
Вижу, вижу лунный лук Сквозь листву густых ракит, Слышу, слышу ровный стук Неподкованных копыт.
Что? И ты не хочешь спать <…>
[Ахматова 1990, 101]
«Слух чудовищный бродит по городу…»:
Пыль взметается тучею снежною, Скачут братья на замковый двор, И над шеей безвинной и нежною Не подымется скользкий топор.
Этой сказкою нынче утешена, Я, наверно, спокойно усну.
Что же сердце колотится бешено, Что же вовсе не клонит ко сну? [Ахматова 1990, 150]
Обратим внимание, что видение без сна всегда, без исключений, соотнесено со смертью. Так, в стихотворении «Вижу, вижу лунный лук…» героиню посещает мертвец, чей голос как бы растворен «в остром крике хищных птиц» (мотив растворения личности в мире у Ахматовой является маркером смерти). В стихотворении «Слух чудовищный бродит по городу…» перед лирической героиней практически наяву разворачивается сказочная драма смерти сестер из сказки «Синяя борода».
Сходный смысловой комплекс возникает и в стихотворении «Так отлетают темные души…», где мы находим практически полную реализацию мотивной структуры сверхсюжета видения. К героине, пребывающей в состоянии болезни, приходит некто, возможно, гость с того света, так как он «никаким <…> не связан сроком» [Ахматова 1990, 190]; героиня вступает с ним в коммуникацию: все стихотворение построено как диалог; само видение описывается как референтно неопределенное, читатель не знает, с кем разговаривает героиня; гость, пришедший к героине, предсказывает ей смерть; и, самое главное, героиня все это видит не во сне, а наяву, отсутствие сна подчеркивается:
Я б задремала под ивой зеленой, Да нет мне покоя от этого звона.
Или сзывают народ на вече? – «Нет, это твой последний вечер!» [Ахматова 1990, 191]
Таким образом, и в этом стихотворении видение наяву соотносится с темой предсказанной смерти.
В семантической диспозиции «сон vs явь» есть один парадоксальный нюанс. Акцентирование того, что нечто происходит наяву, свидетельствует о крайней необычности происходящего и о его фактической близости сно- видению. Именно поэтому когда в лирике Ахматовой появляется спецификатор наяву, речь практически всегда идет о видении в ночное время. Так, в позднем стихотворении из цикла «Шиповник цветет», которое так и называется «Наяву», описывается абсолютно деформированная сновидческая реальность белой ночи: в ней нет времени и пространства, но есть возможность проникнуть в зазеркалье и увидеть некоего потустороннего гостя:
И время прочь, и пространство прочь,
Я все разглядела сквозь белую ночь <…>
И то зеркало, где, как в чистой воде, Ты сейчас отразиться смог [Ахматова 1990, 269]
В этом небольшом стихотворении рисуется топос ирреального мира, который включает в свернутом виде ключевые мотивы комплекса видения: перед героиней наяву в ночное время, предстает видение в образе гостя из зазеркалья, с которым она вступает в коммуникацию.
Показательно, что следующее стихотворение цикла называется «Во сне», что как будто бы формирует своеобразную антитезу с предыдущим текстом… Однако при ближайшем рассмотрении этих стихотворений антитеза снимается, ибо и во сне, героиня видит то же, что наяву: гостя из иного пространства, с которым вступает в контакт.
Таким образом, сон и видение выполняют тождественные функции, оказываясь своеобразными порталами входа в ирреальность. В этом смысле сновидение и видение в рамках поэтического мира Ахматовой трактуются просто как разные дороги, ведущие к одному запредельному миру.
Психологизация видения . Важнейшая особенность проанализированного типа видения заключается в том, что в соответствующих текстах делается акцент не столько на сюжетно-нарративное развертывание видения, сколько на его психологическую составляющую. И в самом деле, сущности, которые видит героиня, так или иначе соотносятся с некими внутренними психологическими импульсами.
Психологизм ахматовской визионерии следует рассматривать в двух аспектах. Так, во-первых, видения Ахматовой часто теряют свой мистический код и прямым образом соотносятся с памятью, во-вторых, сами «гости» из иного мира могут трактоваться как персонификации психологических мотивов, а иной мир соответственно становится миром подсознания.
Видение – память. Обратимся к первому аспекту. Видение в поэтическом мире Ахматовой связывается не только с мифологической визи-онерией, но и с пространством памяти, которое как бы визуализируется и развертывается перед внутренним взором субъекта речи / персонажа. Так, в «Голосе памяти» (сборник «Четки») предполагается, что перед внутренним взором героини на пустой стене предстает целостная картина прошлого: «Что ты видишь, тускло на стену смотря, / В час, когда на небе поздняя заря?» [Ахматова 1990, 58]. Далее перечисляется то, что может видеть та, к которой обращено стихотворение:
Что ты видишь, тускло на стену смотря, В час, когда на небе поздняя заря?
Чайку ли на синей скатерти воды, Или флорентийские сады?
Или парк огромный Царского Села, Где тебе тревога путь пересекла? [Ахматова 1990, 58]
Любопытно, что среди этих возможных образов есть и образ погибшего возлюбленного, который, как показано выше, часто возникает в визионерских текстах Ахматовой: «Иль того ты видишь у своих колен, / Кто для белой смерти твой покинул плен?» [Ахматова 1990, 58]. Обратим внимание и на то, что топос видения в «Голосе памяти», как и в текстах выше, сопряжен с коммуникативным актом – только здесь в коммуникацию вступает сам субъект речи с адресатом текста.
Если в «Четках» видение связывается с памятью, то в «Белой стае» память связывается со сновидением, что в очередной раз обнаруживает генетическую близость видения, сновидения, памяти. Так, в стихотворении «Вновь подарен мне дремотой…» воспоминание обретает визуальную сновидческую форму:
Вновь подарен мне дремотой
Наш последний звездный рай –
Город чистых водометов, Золотой Бахчисарай. [Ахматова 1990, 93]
Такое же стяжение находим и в стихотворении «Все мне видится Павловск холмистый…», где воспоминание, развертываясь перед внутренним взором лирической героини, обретает свое визуально-материальное воплощение.
Здесь, как и в «Голосе памяти», появление воспоминаний вводится перцептивным глаголом видеть (ср. в «Голосе памяти»: «Что ты видишь…»), что указывает на визуальный код этих воспоминаний и обусловливает их тесную соотнесенность с «форматом» видения / сновидения. На связь воспоминания с видением, на объединение их в смысловой пучок онейроидных состояний в авторском сознании указывает и тема бреда, которая дважды возникает в этом небольшом тексте, ср.: «Не живешь, а ликуешь и бредишь», «И, исполненный жгучего бреда, / Милый голос как песня звучит» [Ахматова 1990, 94].
Видение как персонифицированная эмоция. В случаях, проанализированных выше, видение, лишившись своей мистической составляющей, конструировало внутреннее пространство памяти. Однако у Ахматовой, очевидно, возникает и обратный процесс: внутреннее пространство психики оказывается пространством магико-мистическим, «населенным» персонажами, которых можно интерпретировать как метафору определенных личностно-психологических процессов.
В этом плане крайне любопытно, что некоторые смысловые элементы анализируемого сверхсюжета сама Ахматова в поздних текстах трактует в психологическом ключе. Так, в стихотворении «Вторая. О десятых годах» (из цикла «Северные элегии») мотивы сна, бреда, видения и тени Ахматова проецирует на свою личность, интерпретируя этот визионерский комплекс в автобиографическом ключе и психологическом регистре, ср.:
Себе самой я с самого начала
То чьим-то сном казалась или бредом, Иль отраженьем в зеркале чужом, Без имени, без плоти, без причины… [Ахматова 1990, 261]
Выбранный психологический ракурс предполагает, что в этом тексте фиксируется определенное переживание, связанное с отчуждением личности от самой себя, когда личность болезненно отстранена от мира и захвачена некими чуждыми ей, субличностными импульсами (см. об этом: [Шадрин 2012, 108]). Такое отчуждение часто связывается с оней-роидными состояниями сознания, когда, выражаясь языком современной психологии, теряется локус сознательного контроля – и этот мотив также присутствует в стихотворении, ср.: «И вот я, лунатически ступая, / Вступила в жизнь и испугала жизнь» [Ахматова 1990, 261]. Подобное пассивное отстранение от жизни, подобно сну, что вполне закономерно приводит к барочной метафоре «жизнь есть сон», от которого героиня должна пробудиться «Тем мне страшнее в мире было в мире жить / И тем сильней хотелось пробудиться» [Ахматова 1990, 261].
Возможно, что это стихотворение дает психологический ключ к визионерскому комплексу ранней ахматовской лирики. В психологическом ракурсе пространство видения можно представить как овнешвленное, вынесенное вовне, экстериоризированное в образах и сюжетных ситуациях пространство психики.
Экстериоризация внутренних импульсов сопровождается их воплощением, на что Ахматова прямо указывает в стихотворении:
Как будто все, с чем я внутри себя Всю жизнь боролась, получило жизнь Отдельную… [Ахматова 1990, 262]
В этом фрагменте точно описан механизм психического вытеснения, когда борьба с негативными психологическими импульсами приводит к тому, что они, вытесняясь, на самом деле получают отдельную жизнь. Любопытные свидетельства такой психической экстериоризации обнару- живаются в других текстах Ахматовой. Так, в стихотворении «На стеклах нарастает лед…» возникает образ двери-идола и страшного, прячущегося зверя, воющего в саду:
Как идола молю я дверь:
«Не пропускай беду!»
Кто воет за стеной, как зверь,
Кто прячется в саду?
[Ахматова 1990, 255]
В стихотворении же «И вот наперекор тому…» эти же образы появляются совершенно в ином контексте:
Я голосую за:
То, чтоб дверью стала дверь,
Замок опять замком,
Чтоб сердцем стал угрюмый зверь
В груди…
[Ахматова 1990, 256–257]
Соположение этих двух текстов приводит к мысли о том, что «зверь» из первого стихотворения – это реализованная метафора сердца. Сердце в поэтической традиции понимается как локус эмоциональных переживаний, таким образом, зверь – это персонификация мучительных, угрожающих жизни деструктивных эмоций. В первом стихотворении визуализированный внутренний эмоциональный импульс помещается во внешнее пространство, обретая форму живого существа, а во втором стихотворении субъект речи призывает зверя «развоплотиться», вернуться во внутреннюю сферу.
Механизм персонификации эмоциональных импульсов, сгущение их в конкретные образы – это наиболее важный механизм сновидения, генетически связанный с метафорой, о чем в свое время писали З. Фрейд и К.Г. Юнг (см. об этом: [Берестнев 2015]). В этом смысле видения Ахматовой, несомненно, обладают онейроидными чертами: видение – это сон наяву, где разыгрывается некая психодрама, образно воплощающая внутренний конфликт.
Не случайно этот конфликт будет разыгран в онейроидном ключе в более крупных жанровых формах – в «Поэме без Героя» и в (дошедшей до нас в отрывках) драме «Энума элиш», один из реконструированных набросков которой озаглавлен Ахматовой «Из трагедии “Сон во сне ”». Но это уже тема другой работы.
Выводы
-
1. Сон и видение в лирике Ахматовой оказываются элементом единого мотивно-образного кластера, «топографически» соотнесенного с геогра-
- фией иной реальности. Если семантика сна / сновидения сопрягается с фольклорными моделями, то семантика видения устроена более сложно. Видение во многих контекстах противопоставлено сновидению, однако это противопоставление может сниматься, во-первых, за счет того, что само видение в поэтическом мире Ахматовой обладает онейроидными чертами, а во-вторых, за счет того, что и сон, и видение оказываются вратами в иную реальность.
-
2. Видение в лирике Ахматовой связано с ситуацией коммуникации с потусторонними силами, которая формирует устойчивую квазисюжет-ную конструкцию, представленную как в ранней, так и в поздней лирике Ахматовой. Этот сверхсюжет состоит из следующих элементов: видение появляется перед героиней ночью после пробуждения; героиня вступает в коммуникацию с иными силами, которые связаны с психологическими импульсами самой героини; эти силы предсказывают смерть; сама ситуация описывается с дейктической позиции «я-адресации», что приводит к общей референтной неопределённости текста.
-
3. Этот тип видения – психологичен. Его психологизация связана с двумя аспектами. Так, во-первых, память как определенная психическая функция может трактоваться в визионерском ключе; во-вторых, само пространство видения в психологическом ракурсе может интерпретироваться как персонализация / экстериоризация внутреннего конфликта.
-
4. Фактически наш анализ показал, что в лирике Ахматовой есть единое поле онейроидных состояний – сновидение, сон, бред, видение, – внутри которого отсутствует четкая граница, ибо в авторском сознании, все эти феномены произрастают из одного «психологического» корня. Об этом свидетельствует, во-первых, их сходная смысловая дистрибуция, а во-вторых – единство функций (все эти модусы сознания сопряжены с проникновением в иную реальность).
Список литературы Поэтика онейроидных состояний в лирике Анны Ахматовой
- Ахматова А. Сочинения: в 2 т. Т. 1. М.: Правда, 1990. 448 с.
- Белова О.В., Виноградова Л.М. Море // Славянские древности. Этнолингвистический словарь: в 5 т. Т. 3. М.: Международные отношения, 2004. С. 299–301.
- Берестнев Г.И. Лингвистика и толкование сновидений у К.Г. Юнга: открытие метода // Слово.ру: Балтийский акцент. 2015. № 1. С. 21–31.
- Вьюшкова И.Г. Онейропоэтика поэзии Я.П. Полонского. Ишим: Издательство Ишимского государственного педагогического университета, 2012. 119 с.
- Гейне Г. Собрание сочинений: в 10 т. Т. 1. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1956. 386 с.
- Изотова Е.С. Мотивный комплекс «сон – бессонница» в лирике Ф.И. Тютчева // Культура и текст – 2005: сборник научных трудов международной конференции: в 3 т. Т. 1. СПб.; Самара; Барнаул: Издательство Барнаульского государственного педагогического университета, 2005. С. 133–140.
- Ковтунова И.И. Поэтический синтаксис. М.: Наука, 1986. 205 с.
- Козубовская Г.П. Сновидное бытие и песенная реальность в поэзии А. Ахматовой // Культура и текст. 1997. № 2. С. 76–88.
- Кудасова В.В. Сон и бессонница в поэзии Анны Ахматовой // Поэтический текст и текст культуры. Владимир: Владимирский государственный педагогический университет, 2000. C. 203–217.
- Куликова Е.Ю. О мистических прогулках в стихах Анны Ахматовой // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2011. № 5. С. 122–125.
- Михайлова О.А., Снигирева Т.А. Тайна Анны Ахматовой. Слово и образ // Quaestio Rossica. 2021. Т. 9. № 2. С. 576–590.
- Нагорная Н.А. Онейросфера в русской прозе ХХ века. Модернизм, постмодернизм. М.: МАКС-Пресс, 2004. 260 с.
- Пашковский В.Э., Пиотровская В.Р., Пиотровский Р.Г. Психиатрическая лингвистика. М.: ЛЕНАНД, 2015. 168 с.
- Савельева В.В. Художественная гипнология и онейропоэтика русских писателей. Алматы: Жазушы, 2013. 520 с.
- Сергеев О.В. Поэтика сновидений в прозе русских символистов: Валерий Брюсов и Федор Сологуб: дис. … д. филол. н.: 10.01.01. М., 2002. 563 с.
- Теперик Т.Ф. О поэтике литературных сновидений // Русская словесность. 2007. № 3. С. 12–16.
- Уразаева Т.Т. Мотив видения / сновидения в творчестве Лермонтова и Ахматовой // Проблемы литературных жанров. Ч. 1. Томск: Томский государственный университет, 2002. С. 335–340.
- Федунина О.В. Поэтика сна (русский роман ХХ в. в контексте традиции). М.: Intrada, 2013. 196 с.
- Цивьян Т.В. О ремизовской гипнологии и гипнографии // Серебряный век в России: Избранные страницы. М.: Радикс, 1993. С. 299–336.
- Шадрин Н.С. Психология личности. Астана: Фолиант, 2012. 152 с.