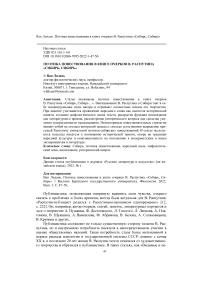Поэтика повествования в книге очерков В. Распутина "Сибирь, Сибирь"
Автор: Ван Лидань
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена поэтике повествования в книге очерков В. Распутина «Сибирь, Сибирь.». Высказывания В. Распутина о Сибири таят в себе индивидуальные коды автора и отражают личностные начала его творчества. При анализе учитывается проявление народного слова как носителя исторической памяти, создание мифологического плана текста, раскрытие функции иносказания как литературного приема, рассмотрение риторического вопроса как средства усиления экспрессивности высказывания. Неповторимые повествовательные стратегии являют собой не столько авторский замысел, сколько естественное выражение присущей Распутину уникальной поэтики сибирских повествований. В статье исследуются подходы писателя к пониманию исторической памяти, опора на традиции народной культуры и оппозиционность по отношению к модернистским и иным экспериментам в литературе.
Сибирь, поэтика повествования, народный язык, мифологический план, иносказание, риторический вопрос
Короткий адрес: https://sciup.org/148324337
IDR: 148324337 | УДК: 821.161.1-4.0
Текст научной статьи Поэтика повествования в книге очерков В. Распутина "Сибирь, Сибирь"
Ван Лидань. Поэтика повествования в книге очерков В. Распутина «Сибирь, Сибирь» // Вестник Бурятского государственного университета. Филология. 2022. Вып. 1. С. 47‒56.
Публицистика, позволяющая напрямую выразить свои чувства, открыто сказать о проблемах и болях времени, всегда была актуальна для В. Распутина: «Распутин-публицист родился с Распутиным-прозаиком одновременно» [12, с. 222]. Он, например, автор очерков, статей, заметок, литературных портретов и эссе о творчестве А. Пушкина, Ф. Достоевского, Л. Толстого, Л. Леонова, А. Платонова, В. Шукшина, А. Вампилова, Ф. Абрамова, В. Белова, А. Солженицына, В. Крупина и других.
Публицистика составляет не только существенную сторону таланта В. Распутина, но и внутреннюю потребность писателя в непосредственном участии в оценке общественных явлений. Такая потребность стала более интенсивной в период распада идеологии и государственной системы СССР: именно с конца XX в. в последние 20 лет жизни В. Распутин почти отказался от художественного творчества и обратился к публицистике. В таких статьях, как «Видимые и не- видимые беды Байкала» (1990), «Сколько будет лет в XXI веке?» (1994), «Где моя деревня?» (1996), «Отчаяние или конформизм?» (1996), «В поисках берега» (2000), «У нас своя вера и своя правда» (2002), «Искать утраченные ценности» (2004) и др., узнаем критический пафос, с каким в свое время Л. Толстой написал гневный публицистический манифест «Не могу молчать!» (1908), в котором протестовал против смертной казни, несправедливости в обществе.
Заметим, что с начала нулевых годов публицистика писателя стала предметом пристального интереса исследователей. Так, к тематике, жанру, образам очерков В. Распутина из книги «Сибирь, Сибирь…» неоднократно обращались литературоведы1. Мы заострим внимание на поэтике публицистического повествования, ярко воплощающего творческий стиль писателя.
Книга «Сибирь, Сибирь…» состоит из 11 очерков, написанных писателем с 1980-х годов по начало XXI в. Из четырех изданий книги, вышедших с 1991 г. по 2017 г., опираемся на четвертое и последнее прижизненное издание, посвященное 80-летию со дня рождения писателя. Книга с ее уникальной поэтикой является углубленным переосмыслением и исследованием Сибири почти во всех сферах ее жизни, «касающихся исторической, культурной, социальной, географической, политической, природно-ресурсной, антропологической, экономической, экологической ситуации. Это история освоения Сибири и история роста сибиряков, это и рассказ о своеобразном «Ноевом ковчеге» [2, с. 17].
Сложно жанрово охарактеризовать книгу «Сибирь, Сибирь…» только как «очерк» или «лирико-философско-публицистический трактат» [5], так как это произведение обладает жанровой неоднородностью и сложностью. В нем сосуществуют историческое обозрение и лирические отступления, есть рассуждения, изложение событий, описания, а также проповедь и медитация. Структура повествования у В. Распутина оказывается уникальной, богатой, сложной. Распутинскую публицистичность хочется сравнить с бурными водами могучих и бурливых сибирских рек: она таит в себе индивидуальные коды автора и отражает личностные начала его творчества.
Прав был В. И. Тюпа, когда рассматривал повествовательную стратегию не как сознательно используемую систему повествовательных приемов, а как пре-
-
1 Соболева О. Опершись на Сибирь // Честное слово. Братск, 2001. 13–19 февр. С. 7; Шеваров Д. Урок Сибири // Красноярский рабочий. 2006. 21 нояб. С. 7; Коноплев Н. С. Величие и падение Сибири: репортаж-палинодия о «Земле Обетованной», предстающей научно-художественным исследованием — историософским трактатом В. Г. Распутина «Сибирь, Сибирь…» // Три века русской литературы: актуальные аспекты изучения: материалы междунар. науч. конф., посвящ. 70-летию В. Г. Распутина (Иркутск, 15–16 марта 2007 г.) / отв. ред. Ю. И. Минералов, И. И. Плеханова, О. Ю. Юрьева. Москва; Иркутск, 2007. Вып. 16: Мир и слово В. Распутина. С. 139–147; Орлова Е. Книга «Сибирь, Сибирь…» стала событием года // Областная газ. Иркутск. 2007. 9 июля. С. 4; Филатова А. И. Русский человек и русская культура в книге В. Г. Распутина «Сибирь, Сибирь…» // Диалог и культур и партнерство цивилизаций: VIII Междунар. Лихачевские науч. чтения (22–23 мая 2008 г.). Санкт-Петербург: Изд-во СПБГУП, 2008; Плеханова И. И. Книга «Сибирь, Сибирь…» В. Распутина как лирико-философско-публицистический трактат // Вестник Томск. гос. ун-та. Филология. 2016. № 3(41). С. 115–134; Бедрикова М. Л., Калимуллина Е. В. Особенности изображения образа Байкала в книге В. Г. Распутина «Сибирь, Сибирь…» // Традиционные национальнокультурные и духовные ценности как фундамент инновационного развития России. 2017. № 2. С. 84–86; Хусаенова Г. Д. Образ Сибири в книге В. Распутина «Сибирь, Сибирь…» // Человек и природа: сб. науч. ст. Чебоксары, 2018. С. 65–68.
дельно абстрактный и не всегда осознаваемый повествователем «план» предполагаемого общения автора с читателем/слушателем [17, с. 87]. Неповторимые повествовательные стратегии являют собой не столько авторский замысел, сколько естественное выражение присущей Распутину уникальной поэтики.
Рассмотрим четыре аспекта, связанных с проблемой повествования.
Народный язык как носитель исторической памяти. Распутин считает, что язык — это «главная связь времен и судеб народных» [16, с. 13], он «не только средство элементарного общения, но и путь познания себя и своего народа, его психологии, этики, морали, веры, исторической поступи и в конце концов его души» [10, с. 117]. Он вводит понятие «сибиризмы», расшифровывая его: «Язык, на котором говорят сибиряки» [7, с. 16]. Если забудется народный язык, потеряется и историческая память, и основа бытия народа. Писателя все больше беспокоит кризисное состояние экологии русского языка и «страсть новоречия» [11, с. 371] у молодежи.
В очерках проясняются значения многих народных слов, которые писатель ласково называет так — «завертушки донных, первопосельных дней» [11, с. 365]. А. Солженицын при вручении своей премии В. Распутину отмечал, что «Распутин не использователь языка, а сам — живая непроизвольная струя языка. Он не ищет слов, не подбирает их, — он льется с ними в одном потоке. Объемность его русского языка — редкая средь нынешних писателей. В “Словарь языкового расширения” я от Распутина не мог включить и сороковой части его ярких, метких слов» [14, с. 189].
Народный словарь В. Распутина богат и своеобразен, в нем есть бесчисленное множество старых разговорных слов с сибирской спецификой, которых нет даже в толковом словаре Даля. Когда В. Распутин говорил о разных трудностях, с которыми столкнулись первопроходцы Сибири, то упоминал «правеж», «розыски» и доносы со стороны доглядчиков, без коих редко удавалось обходиться любой русской сколотке» [11, с. 17–18]. Слово «доглядчик» часто употребляется в разговорной речи со сниженным оттенком; слово «сколотка» — отглагольное существительное от глагола «сколотить», означает «создать, организовать» с фамильярным тоном. В этих словах образно раскрывается изменчивая и сложная ситуация на первых этапах освоения Сибири, а также обрисовывается трудный и сложный путь первооткрывателей.
По словам Распутина, работая над книгой «Сибирь, Сибирь...», он заглядывал в «Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля [18, с. 396], но писатель и сам из тех мест, которые «расчаты были по Сибири выходцами с Русского Севера». И лексика выходцев оттуда для него родная, эти слова «составляют живое и незаменное языковое имущество» [11, с. 371]. С помощью этих слов писатель свободно и точно воспроизводит духовно-самобытный характер сибиряков. В очерке «Русское Устье» он даже провел лингвистическую работу, сопоставляя старую и новую русскую лексику, в частности, зафиксировал исчезновение, к сожалению, первоначального значения слов.
-
В . Распутин «сумел создать свой стиль на основе глубокого и ясного, точного и разящего народного слова» [15, с. 133], сознательно отбирал из народного лексикона наиболее живые и колоритные элементы и создал авторские слова. Это множество имен существительных или отглагольных существительных от
усеченных основ глаголов: взмах, вымах, выплыв, разлохмат; отвлеченные существительные с суффиксом «ость»: богоделанность, пригорбленность, рас-шторменность, мякость, свойскость; сложные существительные или сложные прилагательные: ростостав, прямосток, сухоступ, древлестольный, леворукий, разнобогий и др. Писатель любит обращаться и к просторечию и видит в нем потенциал для свободного и точного выражения мысли и эмоций.
Ценит В. Распутин писателей, идущих по тому же пути, а также собирателей народных слов. В книге он упомянул А. Г. Чикачева из старинной русско-устьинской фамилии, который «собрал огромный материал по истории, этнографии, образу жизни, веры и мысли своих земляков» [11, с. 366], восстановил язык русскоустьинцев — одной из древнейших групп русского народа в Сибири. В этом смысле Русское Устье представляет Сибирь и вчерашнюю, и сегодняшнюю.
Сегодня язык В. Распутина стал неповторимым явлением русской культуры. В 2017, 2019, 2021 гг. иркутский «Региональный центр русского языка, фольклора и этнографии» издал три тома словаря Г. В. Афанасьевой-Медведевой «Народное слово в рассказах и повестях Валентина Распутина», а Иркутский областной краеведческий музей разместил в интернете «Мультимедийный словарь языка произведений Валентина Распутина». Писатель ушел, а язык остался, память жива.
Мифологические элементы на стыке язычества и народного православия. Распутинская публицистика не исключает, а включает в себя художественность. В книге «Сибирь, Сибирь…» можно обнаружить своеобразную философскую поэтику мифа. Мифологические элементы, связанные с богами или другими мифологическими существами, появились в его творчестве под влиянием язычества. Языческие фрагменты, язычество не противоречат православным взглядам писателя, более того, оно «было и долго держалось рядом с православием» [11, с. 362]. В. Распутин озвучивает условное разделение их функций в народной культуре: «Русский человек в божествах запаслив: христианство — для спасения души, а старая вера — в поводу для поддержания живота» [11, с. 362].
В книге очерков имеются такие рассуждения. Плывя вниз по Лене-реке, он сожалеет, что не имеет времени вступить в диалог с миром природы: «Отойди я сейчас в лес и заговори среди деревьев, обращаясь к ним, я и сам себе покажусь странным и застыжусь себя. Хотя странность моя или сторонность от нужного дела в том, быть может, как раз и заключается, что я, обязанный ему, не решаюсь высказать благодарность для своего же одушевления. Язычество?» [11, с. 316]. Фактически, чем более дикой оказывается местность, тем более гармонично могут ладить друг с другом человек и природа, и тем более незыблемы и тверды языческие верования.
Явные элементы язычества В. Распутин заметил в древнейшем селении Русское Устье. Здесь, например, шустрые дети называются облачными: «И только оборотясь к языческим временам славян, извлечешь оттуда: облачные дети, облачные девы — проказливые, устраивающие игрища» [11, с. 373]. В подтверждение такого необычного определения писатель обращается к «Поэтическим воззрениям славян на природу» (1865) А. Н. Афанасьева.
Здесь же при рождении ребенка давалось два имени, одно из которых защищало от «порчи». Оно могло быть и собачьей кличкой. Еще одно верование связано с возвращением умерших в образе младенца. Для помощи ему высверливали отверстие в крышке гроба или же, в случае нежелания повторения недобрых качеств человека, заколачивали в могилу осиновый кол. Такие обычаи и ритуалы представляют собой выражение многовекового жизненного опыта народа. Английский этнолог Э. Б. Тайлор сказал о мифических идеях так: «Они уходят корнями в богатую натурфилософию» [13, с. 23]. В формах архаического мифа скрыты народная этика, мораль и нормы жизни.
В. Распутин сознательно обращается к мифам и легендам, которые для него первоисточник вечной жизни. Как отмечает Е. М. Мелетинский, «мифология в силу своей исконной символичности оказалась… удобным языком описания вечных моделей личного и общественного поведения, неких сущностных законов социального и природного космоса» [4, с. 9]. Стихия воды в книге очерков представлена как мифологическое пространство. В одном из очерков писатель указывает, что его «волнует и завораживает уже сама вода, таинственное, языческое поклонение перед которой не оставляет человека…» [11, с. 304]. В центре внимания прежде всего озеро Байкал. Распутинский Байкал — сама мера щедрот Господня, «которой он мерил, чему сколько быть от Него… Упала мера и превратилась в Байкал» [11, с. 187]. Это и «сверхъестественная сущность неземного происхождения космических масштабов» [1, с. 85]: «Байкал случайно обронен с какой-то другой планеты, более радостной и богатой, где с тамошним жителем он был в полном согласии» [11, с. 36]. Издавна люди чтят Байкал, относятся к нему как святыне, которая пробуждает в человеке как эстетические и практические чувства, так и «таинственные» чувства. Писатель отмечает, что разные легенды о Байкале придают мистический оттенок его сверхъестественной силе, так, нельзя называть «святое море» озером, иначе будет непредвиденная беда. В. Распутин цитирует записи людей, побывавших на Байкале в разные периоды, что добавляет Байкалу загадочность и непредсказуемость, подчеркивает его мистическую природу, «богоносную силу и власть» [1, с. 86].
В книге В. Распутина все сущее имеет душу. Под пером писателя не только «сендуха — изначальная природная власть, всеохватная и всемогущая, карающая и жалующая, единое дыхание бесконечной распростертости» [11, с. 350], но и «самый незатейливый» топор приобретает качества живого существа. Для него топор — «самое полезное из всех изобретений человека» [11, с. 313]. С какой любовью он описывает топор, взятый в плавание по реке Лене: «знающий от хозяина обиход и ласку по руке, речистый и ловкий в руке, сам собой заводящий в работу, в дело, предлагающий ритм, решительный и осторожный, любящий, поработав, понежиться, ведя стружку в мягкой древесине, обласкать руку и успокоить сердце…» [11, с. 314]. Подобные примеры персонификации и природных явлений широко распространены в книге очерков. Такая форма повествования раскрывает первобытную анимистическую картину мира и одновременно экологические идеи писателя и показывает, что В. Распутину доступны и пронзительный критический дух публициста, и логика естественного первобытного мышления.
Иносказание как литературный прием. Метафора — один из наиболее часто используемых В. Распутиным тропов в публицистике. В книге «Сибирь, Сибирь…» вечно бурлящие воды в реках олицетворяют время и жизнь. У них есть свои речные русла, как и у жизни есть своя траектория движения. Разливающиеся притоки, как потомки реки, с разными судьбами. Исторические города — Тобольск, Иркутск, Кяхта — изображаются В. Распутиным как «метафоры региональной цивилизации традиционного типа» [3, с. 176]. В определенной степени мифологизируя старые города, писатель намеренно подчеркивает разницу между традицией и современностью, которые далеки друг от друга, как небо от земли: новый городок, «задрав свои этажи выше кремлевских храмов, так и не сросся со стариной и не впитал в себя ее духа» [11, с. 71]. Он сопоставляет «скорбную, ветхую, изработанную, но и со спины держащуюся благородно и прямо фигуру старичка, отступающего в полярную ночь» [11, с. 335], с ушедшими безвозвратно обычаями, верованиями, уставом жизни русскоустьинцев и, конечно же, глубоко сожалеет об этом.
Иносказание, показывающее отношение автора к основным группам общественных проблем, дает о себе знать, например, в сатирическом разоблачении феномена хищения и растраты государственного имущества. Он сожалеет, что и прежний хозяин не берег сказочное богатство, «загребал через край, с потерями не считался», и еще более сожалеет, что наследство больше не принадлежит народу, что его «в результате хитрых и одновременно грубых махинаций захватили проходимцы, отиравшиеся возле завещательных бумаг и сами себе устроившие распродажу общей собственности» [11, с. 393]. Проходимцы превратили гиганты энергетики, металлургии, лесообработки и т. д. в разменную «рыночную» монету, которую не представляет труда переложить из кармана в карман и увезти в другую страну. Иносказательная форма вуалирует критику, но в конечном итоге обличение реальности получается острым, глубоким, полным негодования и одновременно беспомощности автора.
В книге очерков немало иносказаний используется для раскрытия темы разрушения природы, особенно озера Байкал. Чтобы построить целлюлозные комбинаты вокруг Байкала, чиновники, готовые на все ради корысти, привлекли отдельных представителей науки, и эти представители бросались словами, что «рыбохозяйственное значение Байкала относительно невелико и имеет лишь местное значение» [11, с. 218], а Байкальский целлюлозный завод будет давать в качестве побочного продукта кормовые дрожжи, которыми можно кормить свиней. В оторопи писатель вздыхает: «Молчи, убогая мысля, и признай величие умов: когда бы не свет науки, гонять бы Байкалу до скончания света омулей, а тут к свиньям, курам повышение выходило» [11, с. 219]. В результате работы таких академиков предприятия будут отравлять Байкал.
Насмешки писателя над двоедушием чиновников и дельцов в отношении защиты Байкала — не что иное, как осуждение и бессилие перед абсурдом свершающегося.
Риторический вопрос как средство выражения авторской позиции. Риторический вопрос обычно заостряет внимание на сильных эмоциях, коннотативном значении слова, скрытых намерениях говорящего. В книге В. Распутина ча- сто встречаются риторические вопросы, передающие как восхищение и удивление, так и чувства отчаяния и сожаления.
В книге очерков больше гневно заряженных критических риторических вопросов, которые придают тексту писателя страстный публицистический тон. Основной тональностью распутинской публицистики является критическое осмысление закоренелых пороков общества и в целом состояния современной действительности. Ярко критическая позиция писателя особенно отчетливо раскрывается при обсуждении проблем исторической памяти и экологии. В. Распутин в книге упомянул пленного шведского капитана Страленберга, «отбывавшего после Полтавы неволю в Тобольске, составившего карту Сибири и по возвращении на родину написавшего о России книгу» [11, с. 54], что сделало его имя знаменитым на весь мир. «А теперь представьте: что если бы Ремезов, оказавшись по счастью или несчастью в Швеции, привез оттуда чертежное и письменное описание этой страны, как расчертил он до последней землицы всю Сибирь и дал ее первоначальную историю, — кто-нибудь поставил бы ему это в заслугу?!» [11, с. 54]. Риторический вопрос помогает писателю закрепить мысль о том, что по его мнению, ни одна страна так пренебрежительно не относится к своей истории, традициям, верованиям и соотечественникам, как Россия. «Вся Россия плохо сохранила свою историческую память и исторические памятники» [9, с. 76], уже мало что осталось в русской памяти. Аналогия со Страленбергом постоянно подпитывается у писателя реальными фактами. Сотрудница Минкультуры, главный автор проекта реставрации иркутских святынь Галина Оранская по стечению обстоятельств прожила в Иркутске десять лет и приложила большие усилия для реставрации исторических памятников города. Но «ни на одном из камней не осталось ее имени, уйдем скоро и мы, помнящие ее, унесем с собой свою благодарность к ней — и что же, разве чувство конечной справедливости всего сущего вместе с чувством долгими скитаниями добытой усыновлен-ности будет полным, если оно останется безымянным?!» [11, с. 175]. Для писателя помнить прошлое — это священный моральный долг человека. «Без исторической памяти нет исторической справедливости вообще» [6, с. 12]. Острым риторическим вопросом писатель обличает несправедливость общества по отношению к частной судьбе. Человеческая судьба была заметена пылью времени, а сколько коллективной мудрости было затоплено в реке забвения?!
Нет благодарного отношения и сохранения ценностей Русского Устья: состояние упадка этой уникальной культуры вызвало у писателя давящую тоску, «чувство бренности и тщеты». «Все, чем жили триста с лишним лет на этом берегу, изошло, рассеялось, иссякло. И во что, кроме тлена, обратилось? Есть ли в свете справедливый счет, отмеряющий пользу и тщету нашего бытия, и кто настраивает его? Неужели только того в конце концов и заслужило Русское Устье, что скорбного погоста да поднятого над ним, как над возвращающимся в отчие пределы кочем, застывшего паруса?» [11, с. 382]. Древнее селение вместе с традиционной культурой и историческими памятниками постепенно исчезает. Прибегая к риторическим вопросам, писатель с болью констатирует, что ничем не заменимое и невозобновляемое культурное наследие станет в конечном итоге «культурным сожалением».
Писателя огорчает и удручает не только отношение людей к истории и культуре, но и их отношение к природе. Он озадачен проведением работ по освоению и использованию ресурсов Сибири. Он надеется, что Горный Алтай, чудом сохранивший «свой первородный лик», полностью не отдадут под гидроэлектростанции, не отдадут в «окончательную перемолку и переделку» [11, с. 127]. Ряд риторических вопросов в этой части текста помогает подчеркнуть, что строители гидроэлектростанций, пытаясь использовать национальные интересы как щит и оправдание, увереннее и смелее уничтожают природу и на деле наносят ущерб национальным интересам. Выступления же защитников окружающей среды интерпретируются как протест против развития страны — и таким образом последние становятся «общим врагом» народа. Такой «массовый психоз» рассматривается В. Распутиным как «еще одна гражданская война против собственных полей и рек, ценностей и святынь» [11, с. 216]. Более того, на взгляд писателя, эта война не только застилает все в России пороховым дымом, но и полным ходом идет во всем мире: «Когда киты, собираясь в стаи, вопреки жизненному инстинкту выбрасываются на берег, птицы намеренно убиваются о скалы, а слоны, объятые ужасом и яростью, крушат на своем пути все, что давало им мир и пищу, не тот же ли самый удар неизвестного происхождения ведет их в самоубийственном порыве?! Если причина внешняя, пред которой ничему живому, в том числе и ему, «венцу природы», не устоять, то где его прославленная, берущаяся от разума могущественность, на разгон каких сил и качеств он ее употребил, забыв о себе, о своей защите от таинственного умопомрачения?!» [11, с. 325–326]. Что же останется от человека и от мира? Писатель осуждает «самое совершенное из всего сущего» за его безрассудное разрушение общего богатства человечества: «К какому после этого обращаться разуму, к какому взывать милосердию?!» [11, с. 328]. Писатель предупреждает, что человечество, даже не подозревая об этом, оказалось в безвыходной ситуации.
Таким образом, В. Распутин видит в открытом пренебрежении традициями и грубом попирании природы уничтожение национальной совести и нравственное вырождение. «Что, в самом деле, за народ мы?! Или уж не народ, а отрод, не продукт предыдущих поколений, а отчленившееся самонадеянно уродливое подобие!?» [11, с. 301]. Массовый психоз в покорении природы ни к чему хорошему не приведет. Писатель убеждает мир задуматься о безумном поведении и призывает к разумной и мудрой жизни.
Еще в конце 1980-х гг. В. Распутин писал: «Никакое общество, сколь бы могучим и молодым оно ни представлялось себе, не сможет долго продержаться в силе и здравии, если оно откажется от вековых традиций и уставов своего народа. Это все равно что, подрубив корни, уповать на ветви» [8, с. 155]. Подобная же идея легла в основу авторской повествовательной стратегии.
Различные формы народной культуры оцениваются как корневая основа культуры и морали нации. Писатель дорожит исторической памятью и стремится для возрождения национального духа пробудить в людях ощущение связи с прошлым. Мысль о народной культуре как главном духовном продукте нации, выраженная с помощью поэтики «сибирского повествования», воплощает анти-модернистское мировоззрение писателя.
Список литературы Поэтика повествования в книге очерков В. Распутина "Сибирь, Сибирь"
- Бедрикова М. Л., Калимуллина Е. В. Особенности изображения образа Байкала в книге В. Г. Распутина «Сибирь, Сибирь…» // Традиционные национально-культурные и духовные ценности как фундамент инновационного развития России. 2017. № 2. С. 84–86. Текст: непосредственный.
- Гладкова И. Б. Топос Сибири в русской очерковой прозе 1960–1980-х годов (Л. Н. Мартынов, В. Г. Распутин, П. Н. Ребрин, И. Ф. Петров): семантика, генезис, эволюция: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Омск, 2004. 24 с. Текст: непосредственный.
- Каминский П. П. «Время и бремя тревог». Публицистика Валентина Распутина. Москва: Флинта; Наука, 2012. 235 с. Текст: непосредственный.
- Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. Москва: Восточная литература, 2000. 406 с. Текст: непосредственный.
- Плеханова И. И. Книга «Сибирь, Сибирь…» В. Распутина как лирико-философско-публицистический трактат // Вестник Томского госудасртвенного университета. Филология. 2016. № 3(41). С. 115–134. Текст: непосредственный.
- Пэн Ган. Историческая память и историческое письмо — «Поворот памяти» с точки зрения исторической теории // Историографические исследования. 2014. № 2. С. 1–12. Текст: непосредственный.
- Распутин В. Г. Очищение человека // Неделя. 1977. 5–11 сент. С. 14. Текст: непосредственный.
- Распутин В. Г. Что в слове, что за словом?: очерки, интервью, рецензии. Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1987. 336 с. Текст: непосредственный.
- Распутин В. Г. Наше духовное поле // В начале было Слово: праздник славянской письменности и культуры в Новгороде / составитель В. Т. Слипенчук. Ленинград: Лен-издат, 1990. С. 65–82. Текст: непосредственный.
- Распутин В. Г. Эти двадцать убийственных лет. Москва: Алгоритм, 2015. 318 с. Текст: непосредственный.
- Распутин В. Г. Сибирь, Сибирь…. Москва: Азбуковник, 2017. 400 с. Текст: непосредственный.
- Семенова В. А. Читать Распутина, слушать Россию // Наш современник. 2007. № 3. С. 218–230. Текст: непосредственный.
- Сигел Роберт. Миф как первобытная философия — на примере Эдварда Бернет-та Тайлора // Философское мышление мифа / перевод Цзян Даньдань, Лю Цзяньшу. Шанхай: Изд-во Шанхайского пед. ун-та, 2019. С. 18–46. Текст: непосредственный.
- Солженицын А. И. Слово при вручении премии Солженицына Валентину Распутину 4 мая 2000 // Новый мир. 2000. № 5. С. 186–189. Текст: непосредственный.
- Тендитник Н. С. Искусство — случившаяся реальность: вопросы художественного творчества в публицистике В. Распутина // Сибирь. 1980. № 1. С. 124–136. Текст: непосредственный.
- Тендитник Н. С. Валентин Распутин. Очерк жизни и творчества. Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 1987. 225 с. Текст: непосредственный.
- Тюпа В. И. Дискурсные формации: очерки по компаративной риторике. Москва: Языки славянской культуры, 2010. 320 с. Текст: непосредственный.
- Филатова А. И. Русский человек и русская культура в книге В. Г. Распутина «Сибирь, Сибирь…» // Диалог культур и партнерство цивилизаций: VIII Международные Лихачевские научные чтения (22–23 мая 2008 г.). Санкт-Петербург: Изд-во СПБГУП, 2008. С. 395–396. Текст: непосредственный.