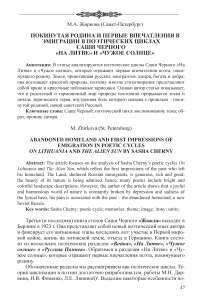Покинутая родина и первые впечатления в эмиграции в поэтических циклах Саши Черного «На Литве» и «Чужое солнце»
Автор: Жиркова Марина Анатольевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 4 (35), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются поэтические циклы Саши Черного «На Литве» и «Чужое солнце», которые отражают первые впечатления поэта, покинувшего родину. Земля, приютившая русских эмигрантов, щедра, богата и добра; она восхищает красотой природы, поэтому многие стихотворения представляют собой яркие и красочные пейзажные зарисовки. Однако автор статьи показывает, что в радостный и гармоничный мир природы постоянно прорывается тоска и печаль лирического героя, внутренняя боль которого связана с прошлым - покинутой родиной, новой советской Россией.
Саша черный, поэтический цикл, воспоминания, тема, образ, ирония, сатира
Короткий адрес: https://sciup.org/14914523
IDR: 14914523
Текст научной статьи Покинутая родина и первые впечатления в эмиграции в поэтических циклах Саши Черного «На Литве» и «Чужое солнце»
Третья (и последняя) книга стихов Саши Черного «Жажда» выходит в Берлине в 1923 г. Она представляет собой новый поэтический опыт автора и фиксирует его жизненные этапы последних лет: участие в Первой мировой войне, жизнь на литовской земле, отъезд в Германию. Книга состоит из нескольких поэтических разделов: «Война», «На Литве», «Чужое солнце» и «Русская Помпея» . Обратимся к разделам «На Литве» и «Чужое солнце», которые отражают первые впечатления поэта, покинувшего родину.
Обозначенные разделы мы рассматриваем как поэтические циклы. Теория циклизации в поэзии достаточно разработана (см. работы М.Н. Дарвина, И.В. Фоменко, Л.Е. Ляпиной)1. Выделим некоторые особенности по-

этики цикла, необходимые нам для рассмотрения поэзии Саши Черного. Исследователями отмечается авторская заданность композиции цикла; самостоятельная значимость отдельного стихотворения и поэтическое единство, образованное взаимодействующими между собой произведениями, которые составляют единый цикл2. Мы будем обращаться к отдельным стихотворениям, входящим в состав циклов, но, в первую очередь, цикл рассматривается как единое целое, поэтому анализ стихотворения подчинен рассмотрению его как составной части целого, «работающего» на общую авторскую концепцию. Нам важно определить и проследить за развитием заданной темы, выявляемых «стихотворных перекличек» (М.Н. Дарвин), мотивов.
Цикл «На Литве» небольшой: всего десять стихотворений, различных по эмоциональной составляющей. Многие из них о литовской земле, приютившей русских беженцев, щедрой, богатой и доброй. Некоторые стихотворения представляют собой поэтические пейзажные зарисовки: «Докторша», «Яблоки», «На миг забыть – и вновь ты дома», «Утром» и др. Но цветущий сад, заросли сирени и малины, спелые яблоки перебиваются картиной пустых полей, поросших лебедой в России, вереницей беженцев «из русского бушующего ада»3. (В дальнейшем художественный текст цитируется по данному изданию с указанием номера страницы внутри текста в круглых скобках.) В цикле доминируют тоска и печаль; постоянно присутствует внутренняя боль, которую поэт пытается заглушить. Для него она связана с прошлым: покинутой родиной, новой советской Россией.
В цикле выделяются два достаточно крупных стихотворения с явно выраженным эпическим началом: «Докторша» и «Американец». Каждого из героев стихотворения можно назвать таковым в прямом смысле слова, хотя героизм в первом случае – в стихотворении «Докторша» – это нелегкий труд повседневных забот о земле, доме, семье русской вдовы. Поэт знакомит со своей главной героиней, русской женщиной, начиная с описания окружающего мира, вписывая ее в него, как в фотографическую рамку: мельница, сад, дом, хлев; рядом – ребенок и старая нянька.
В центре стихотворения – тяжелые будни одинокой женщины, погруженной в быт, тоскующей по мужу-доктору, павшему «в борьбе с мужицким сыпняком». Она мучается от неизвестности о родных, оставшихся в России, но остается приветливой и открытой нечаянным гостям – русским беженцам, вереницу которых она наблюдает каждый день. Именно это стихотворение открывает поэтический цикл, задавая темы, образы и настроение, которые разовьются в дальнейшем как в цикле «На Литве», так и в следующем за ним цикле «Чужое солнце», посвященном берлинским впечатлениям. Это болезненные воспоминания о прошлом, оставленной родине, жизнь в которой превратилась в ад и где поселилась «Русская Печаль». Это каждодневная борьба с собственной тоской, обстоятельствами за кусок хлеба, крышу над головой. Это чувство одиночества, неприкаянности русских беженцев на фоне красоты и богатства щедрой литовской, а позднее, в цикле «Чужое солнце», немецкой природы.

Второе крупное стихотворение – «Американец» – об отзывчивом сердце, откликнувшемся на чужую беду, посланце благотворительной организации, в задачу которой, как пишет в комментариях к этому стихотворению А.С. Иванов, входило оказание помощи населению продовольствием, одеждой и медикаментами на территориях, пострадавших от войны4.
Ночью американскому посланцу приходится столкнуться с грабителями и отразить нападение на темной улице. Несмотря на предупреждение врача после осмотра и помощи пострадавшему, несмотря на уговоры остаться в доме, американец вновь отправляется в ночь. Благодаря этому образу главного героя в жанровом отношении стихотворение сближается с балладой.
Проблема героизма и выбора своей позиции становится предметом обсуждения внутри этого стихотворения. Искренне восхищается поведением американца русская девушка: он пришел на помощь чужим для него людям в тяжелое для них время, а главное – ее покорил его смелый отпор на ночной дороге грабителям. Но ей приходится признать и правоту своих приятелей: русского агронома и местного адвоката, играющих каждый день в шашки. Они приводят свои доводы и примеры. В одном случае речь идет о героизме на войне, да и бегство из охваченной войной и революцией страны тоже можно рассматривать как проявление отваги; в другом – ночная стрельба в целях самообороны, как защитил себя американец, будь это где-нибудь в Москве, могла бы обернуться в реалиях советской действительности расстрелом:
Его б постигла та же участь:
Примчавшийся на выстрелы патруль
Героя вашего ухлопал бы на месте
За… незаконное ношение оружия… (61) .
Горько признавать правоту тех, кто способен «только на диване всласть поговорить» (60). Заканчивается стихотворение все-таки утверждением активной позиции – букет чайных роз в знак восхищения и благодарности от русской девушки получает в подарок американец.
Если рассматривать поэтический цикл как единое целое, то мы увидим, как заявленные темы, образы, восприятие времени в первом стихотворении проявляются в дальнейшем. С иронией отзывается на «Докторшу» второе в цикле стихотворение «Оазис» : радушие и гостеприимность хозяев хутора оборачивается для гостя тяжело набитым животом, а ночной отдых героев прерывается на битву с блохами: «Едва к рассвету замер бой» (53). Третье, о котором уже шла речь, «Американец», фокусирует в себе последствия войны и революции: голод, нищета, страх, смерть.
В следующих стихотворениях будут чередоваться описание красоты, щедрости литовской земли («Яблоки», «Утром», «Табак»), улыбки и легкой иронии («Подарок»), тоски и печали, прорывающихся внутри этого прекрасного мира («На миг забыть – и вновь ты дома», «Аисты»). Как бы
ни была радушна и щедра литовская земля, сохраняется болезненное понимание своего и чужого, «здесь» и «там»: «Очнись. Нет дома – ты один / Чужая девочка сквозь тын / Смеется, хлопая в ладоши» (63). Кресты на немецких могилах в стихотворении «На миг забыть – и вновь ты дома» напоминают о недавней войне, последнее, «Могила в саду», возвращает к военному прошлому, замыкая, таким образом, цикл темой потерь и памяти. Вспоминают умершего врача в первом стихотворении «Докторша», не забыть матери не вернувшегося с войны и оставшегося лежать в чужой земле сына в последнем ( «Могила в саду» ).
Литва – близкая и до недавнего времени родная земля, напомним, что с XVIII в. по 1917 г. она входила в состав Российской империи, теперь стала другим государством. Примечательно, что в этом цикле употребляется только слово «беженцы» и близкие к нему: набег, бегство. Беженцы – вынужденные переселенцы, покинувшие свою страну в силу чрезвычайных обстоятельств: войны, разрухи, голода, революции. В этом случае сохраняется надежда вернуться домой, когда закончатся тяжелые времена. Будущее пока неопределенно, остается открытой возможность возвращения. В следующем цикле «Чужое солнце» «беженцев» сменяет слово «эмигранты». С понятием «эмиграция» связан осознанный выбор и самостоятельное решение покинуть страну и жить за границей. Как отмечается в словаре С.И. Ожегова, эмиграция – это вынужденное или добровольное переселение из своего отечества в другую страну, тогда как беженцы – вынужденные переселенцы, оставившие место своего жительства вследствие какого-нибудь бедствия5. В 1920 г. Саша Черный покидает Литву и вместе с женой перебирается в Германию.
В поэтическом цикле «На Литве», как уже отмечалось, есть легкие, ироничные стихотворения, например: «Оазис» или «Подарок». В одном из них появятся строчки, которые можно назвать поэтическим кредо поэта:
Когда душа мрачна, как гроб, И жизнь свелась к краюшке хлеб, Невольно подымаешь лоб На светлый зов бродяги Феба, – И смех, волшебный алкоголь, Наперекор земному аду, Звеня укачивает боль, Как волны мертвую наяду… («Оазис»).
В них весь поэт – через иронию и юмор он пытается преодолеть собственную боль и помочь другим. Такой поддержкой и будут его поэзия и проза в эмиграции.
Следующий раздел «Чужое солнце» посвящен берлинской жизни. Он обозначает и новое пространственное перемещение – теперь речь идет о Германии, которая на два с лишним года приютит поэта. Саша Черный 50
бывал здесь и раньше: в 1906 и 1910 гг. Поэтическим итогом последней поездки стал цикл «У немцев» (книга «Сатиры и лирики», СПб., 1911). Но сейчас изменилась точка зрения: поэт смотрит не со стороны путешественника на чужой и незнакомый мир, а изнутри чужого и принявшего беженца мира. Отсюда естественная благодарность за приют, добро, радушие. Сатира раннего цикла «У немцев» сменяется в берлинском цикле «Чужое солнце» пейзажными зарисовками. Единственное сатирическое стихотворение здесь, близкое к стихам 1911 г. – «Курортное».
Открывает цикл стихотворение «С приятелем» , которое состоит из пяти частей. Само стихотворение представляет собой лирический монолог, обращенный к ребенку. Первая часть рассказывает о предстоящей прогулке, которая, по-видимому, вызывает радость и у лирического героя, и у его маленького друга. Для каждого из них это возможность отвлечься, одному погрузиться в воспоминания, другому – в общение с миром природы. Вторая часть представляет саму прогулку, но внутри стихотворения происходит смена настроения. Друзья оказываются свидетелями чужой радости и развлечений:
Карусель кружится в ритме танца И девчонки ввысь летят в ладьях… Вдосталь хлеба, солнца и румянца, Только мы – полынь в чужих полях (69).
Взрослому приходится подбадривать своего маленького друга, неуютно чувствующего себя на чужом празднике.
Третья часть – погружение в сон уставшего мальчика, которому вместо колыбельной читается гоголевская «небылица»: «Как летал кузнец Вакула / На чертенке к нам в столицу» (70). Четвертая часть ломает покой и умиротворение третьей грубоватостью своей резкостью, антиэстетической лексикой, напоминающей раннего поэта-сатирика. В ней – размышления поэта о будущем спящего мальчика, которые тесно связаны с прошлым и надеждой, что у ребенка получится хоть немного изменить несовершенство мира, что «вспыхнет радость, беспечность и смех» или «глаз не будет бессонных, / Люди станут добрее цыплят» (71). Но это все в будущем, а пока: «В небе мертвые звезды горят» (72). Свет далеких звезд не радует, но кажется холодным, равнодушным, и человек одинок в своей тоске и боли.
В пятой части мы видим, что поселившаяся в душе тоска не позволяет раствориться в окружающем добре и радушии и замыкает лирического героя на собственной боли:
Никогда я не забуду,
Никогда я не прощу! (72).
На то, что осталось в прошлом, даются лишь глухие намеки, но они и те чувства, которые испытывает лирический герой, понятны каждому,
оказавшемуся сейчас вдали от родины на чужбине.
О чужой земле поэт говорит теперь с восхищением. Не случайно «солнце» вынесено в название, именно пейзаж становится доминантой цикла. Пейзажные зарисовки зримо-конкретны, а природа – живое существо, обращенное к человеку: вершина ласковая; пчелы играют, танцуют; холмы манят; поток поет; ветер играет и в путь зовет; трава бормочет и т.д. Поэтому и человек может отправиться на свидание к водопаду, улыбнуться старой елке, камню, бабочке и пню, пойти в гости к скалам. Природа прекрасна, это радостный, гармоничный мир, и люди здесь живут тоже в гармонии с ним:
Здесь мир в полях, в лесах, в садах… В извечных медленных трудах.
Струится жизнь сквозь дым столетий, И люди чисты – словно дети (89).
Подчеркивается радость и довольство, люди гостеприимны и приветливы; смех и улыбка часто встречаются на страницах цикла. Природа не принадлежит ни человеку, ни какой-либо стране, и в то же время она принадлежит каждому, солнце светит для всех: «Солнце – наше, горы – тоже наши…» (70). Солнце присутствует почти в половине стихотворений; оно несет тепло, свет, преображение, например, как это происходит в стихотворении «Солнце». Поэтическая цветопись представлена естественными красками природы: неба, лесов, полей, например:
Полосой сбегает желтая пшеница, И леса под солнцем, как зеленый сон (69).
А вверху – бирюзы,
Голубой удивительный цвет (74).
Поэт не одинок в своих скитаниях по чужой земле, рядом с ним его маленькие друзья – дети. Детские образы часто мелькают внутри цикла, например, поэт с удовольствием наблюдает за играющими на улице детьми («На берлинском балконе», «Весна в Шарлоттенбурге», «Над всем»). Вместе с русским мальчиком бродит он по немецким лесам и холмам, попадает на праздник, а затем под гоголевскую повесть укладывает его спать («С приятелем»). С девочками Тосей и Инной строит песочный баркас на берегу и отправляется на нем в воображаемое путешествие: «– На Яву? – Но странные дети / Шепнули, склонясь: – В Петроград» («Мираж»). Можно предположить, что с немецкими детьми, фрейлен Нелли и мистером Гарри, он проводит рождество в небольшой деревушке – «В Саксонской Швейцарии». К ребенку обращается поэт в стихотворении «Корчевка». Появится еще один друг – белка («На берлинском балконе») – героиня последующих произведений: «Берлинское рождество» и «Письмо из Бер- 52
лина». А.С. Иванов в своих комментариях к поэтическим произведениям Саши Черного пишет: дети и животные – это те, «в ком поэт всегда находил утешение и отраду, особенно на чужой стороне»6.
Детская тема занимает особое место в творчестве поэта. В годы эмиграции творчество для детей становится практически основным, а в жизни Саши Черного постоянно присутствует забота о русских детях, волей судьбы лишенных своей Родины, родной культуры, языка. Для них в эмиграции он готовит хрестоматии, альманахи по русской литературе, в Париже в разделе «Страничка для детей» газеты «Иллюстрированная Россия» и в рубрике «Детский остров» газеты «Последние новости» постоянно появляются его детские стихи, рассказы и сказки, выходит ряд книг для детей. В поэзии и прозе для детей Саши Черного происходит взаимное обогащение: целый мир поэт готов открыть для ребенка, но и сам от общения с маленькими человечками через страницы книг и журналов обретает смысл и опору в жизни.
В поэтическом цикле «Чужое солнце» контрастно представлены два мироощущения. Мир вокруг приветливо распахнут, множество пейзажных зарисовок, ярких и красочных. Веселье, радость, смех или тишина и покой окружают человека в этом мире. Иногда возникает ощущение нереальности: это все сказка, сон. Маленькие домики и улочки старого Ганновера кажутся игрушечными, как будто их сделали карлики («Старый Ганновер»). Пейзажная лирика наполняет поэтический цикл не случайно, природа позволяет скрыться от мира, забыться, правда, на время. В какой-то момент даже возникает ощущение, «если тихо смотреть из травы, – ничего не случилось, / Ничего не случилось в далекой, несчастной земле» (88).
Но радости или покоя обрести здесь все равно не получается, потому что вокруг «чужая речь», «чужие люди», «ноги здесь, а сердце там далече» (70). Лирический герой наблюдает чужую жизнь со стороны, не погружаясь в нее, не становясь ее частью, оставаясь, соответственно, тоже чужим окружающему его миру. Мир прекрасен, но мы здесь чужие. Слова «русский», «родной» или «эмигрант» есть почти в каждом стихотворении. Самое страшное – места на этой земле для нас не находится. Россия воспринимается как далекая планета, и пути назад нет. В конце цикла уже оставленная родина начинает казаться миражом, сном: «Может быть, наше черное горе только приснилось?» (88). Возникает ощущение абсолютного одиночества, покинутости Богом: «Бог, услышь! – В ответ смеется эхо. / Даль зияет вечной пустотой» (80).
В рамках одного стихотворения не раз внутри цикла соседствуют радость, удовольствие от увиденного и боль, тоска по прошлому. Прошлое присутствует лишь намеками, прорывается отдельными фразами о неутихающей тоске, не проходящей скорби, черном горе. Внутри одного стихотворения радостно приподнятого, в котором, как кажется, природа, окружающий мир и человек находятся в гармонии, прорывается печальная мелодия, другая реальность, настроение, не совпадающее с изначаль-
но обозначенным. Стихотворение «Солнце» о преображении мира, когда даже «отрепья старушек, / Как райские стружки <…> И даже навоз, / Как клумба из роз» – заканчивается образом слепого солдата, идущего вслед за собакой-поводырем вдоль стен – весточка из недавнего военного прошлого. В стихотворении «На берлинском балконе» , казалось бы, все радует: ласковое солнце, голубое небо, румяные мальчишки на улице, появление нового друга, белки, – но последняя строка приглушает радостное настроение:
Посидим на балконе
И уйдем: белка в ящик со стружками спать, Я – по комнате молча шагать (74).
То же наблюдается и в ряде других стихотворений: «Поденщина», «Весна в Шарлоттенбурге», «В Гарце», «В старом Ганновере», «Глушь». Показательно в этом плане само название цикла – «Чужое солнце» , которое звучит почти как оксюморон и передает те боль и тоску, которые испытывает каждый, оказавшийся в изгнании. Рассматривая соотношение заголовка и текста, И.В. Фоменко замечает, что, относясь ко всему циклу сразу, заглавие тем самым выступает в функции скрепы, объединяет все стихотворения в единое целое. При этом, как правило, заголовки ориентируют на общие для всего цикла пафос, тему и/или проблематику7. Можно отметить особую тональность поэтического цикла Саши Черного, отраженную в названии: звучание мажорной мелодии постоянно перебивается минорной, и хотя это лишь небольшие вставки, отдельные фразы, именно она становится ведущей.
Одними из последних стихотворений цикла являются стихи, связанные с искусством. Их немного – три. Если самое первое, «Искусство», звучит вполне серьезно, то два последующих – с иронией. Объединяет их мысль о спасительной силе искусства, поддерживающей человека, изгнанного из рая на «злую» землю и покинутого Богом: «Нет Бога? Что ж… Нас отогреют Музы…» (90). Искусство, вдохновение, творчество, по мысли поэта, сродни самой жизни. Два следующих стихотворения высокое начало предыдущего переводят из вселенского масштаба в более земной, и вот уже Муза в гостях у поэта: «Здравствуй, Муза! Хочешь финик?». Легкость, игривость тона переводят все стихотворение в шутку. Но таким образом, с одной стороны, Саша Черный продолжает поэтическую традицию – разговора или обращения к Музе, а с другой – обозначает близость самого поэта и Музы: «Лирой вмиг вспугнем тоску!» (91). А значит, как творец Поэт может нести спасение, помочь и поддержать. Намечено еще одно сближение: вечные Музы всегда молоды, как и сам поэт: «Голова твоя седая, / А глазам – шестнадцать лет!».
Упоминание лиры становится символическим мостиком к следующему стихотворению, в котором под итальянскую мандолу звучит русская песня. Этот музыкальный инструмент будет неоднократно упоминаться в
дальнейшем. Последнее стихотворение вновь возвращает к теме русских эмигрантов, теме памяти. В третьем стихотворении под итальянскую мандолу звучит русская песня, наполняя сердце нежным трепетом («Мандола»).
Завершающее поэтический цикл стихотворение «Тех, кто страдает гордо и угрюмо» снова содержит обращение к теме русских эмигрантов, обличая напускное, ложное и подлинное страдание. Оно ставится символическим мостиком к последнему в книге стихов циклу «Русская Помпея», полностью посвященному России, той, которой больше нет. Таким образом, двигаясь к своему завершению, книга устремляется не вперед, а назад, в прошлое. Если начало эмиграции многими воспринимались как явление временное, и казалось, что можно будет скоро вернуться домой, на родину, то с течением времени приходит понимание, что Россия становится все дальше и дальше. И остается только помнить. Не случайно темы памяти, истории, России будут доминирующими в литературе русского зарубежья.
Список литературы Покинутая родина и первые впечатления в эмиграции в поэтических циклах Саши Черного «На Литве» и «Чужое солнце»
- Дарвин М.Н. Проблема цикла в изучении лирики. Кемерово, 1983
- Фоменко И.В. Поэтика лирического цикла: автореф. дис. … доктора филол. наук: 10.01.08. М., 1990
- Ляпина Л.Е. Циклизация в русской литературе ХIХ века. СПб., 1999
- Ляпина Л.Е. Циклизация в русской литературе ХIХ века. СПб., 1999. С. 9
- Черный С. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 2. Эмигрантский уезд. Стихотворения и поэмы. 1917-1932. М., 2007. С. 49
- Иванов А.С. Комментарий//Черный С. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 2. Эмигрантский уезд. Стихотворения и поэмы. 1917-1932. М., 2007. С. 449
- Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1997. С. 910
- Иванов А.С. Комментарий//Черный С. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 2. Эмигрантский уезд. Стихотворения и поэмы. 1917-1932. М., 2007. С. 476
- Фоменко И.В. Поэтика лирического цикла: автореф. дис. … доктора филол. наук: 10.01.08. М., 1990. С. 24