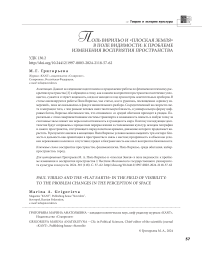Поль Вирильо и «плоская земля» в поле видимости: к проблеме изменения восприятия пространства
Автор: Григорьева М.А.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 2 (118), 2024 года.
Бесплатный доступ
Данное исследование подготовлено в продолжение работы по феноменологическому раскрытию пространства [2] и обращено к тому, как в нашем восприятии пространство постепенно уплощается, сужается и теряет видимость, когда не находится под присмотром осветительных приборов. В статье анализируются работы Поля Вирильо, чьи статьи, эссе и рукопись, посвященная «кризису измерений», пока не оказывались в фокусе внимательного разбора. Сосредоточенный на скорости света и миграции того, с чем раньше человек имел тактильную близость, в универсальную форму цифровых битов, Вирильо обеспокоен тем, что отношения со средой обитания приходят в упадок. Параллельно с этим совершенствование системы транспорта и возможность попасть в любую точку за считанные часы лишает нас веры в непостижимость и громадность мира. Поэтому последующие десятилетия будут сопряжены с процессами перерасселения и столкновения культур, исходом географии и самого пространства, отступающего перед полотном времени, движение которого продолжает нарастать. В результате анализа в концепции Поля Вирильо условно можно выделить три сектора: близость и дальность как ориентация в пространстве и связь с местом; прозрачность и объем как условия переживания наличия и отсутствия; предел и безграничность как опыт восприятия безопасности.
Восприятие пространства, феноменология, поль вирильо
Короткий адрес: https://sciup.org/144163075
IDR: 144163075 | УДК: 130.2 | DOI: 10.24412/1997-0803-2024-2118-57-62
Текст научной статьи Поль Вирильо и «плоская земля» в поле видимости: к проблеме изменения восприятия пространства
PAUL VIRILIO AND THE «FLAT EARTH» IN THE FIELD OF VISIBILITY:
TO THE PROBLEM CHANGES IN THE PERCEPTION OF SPACE
Marina A. Grigorieva
Magazine "KANT", Publishing house "Stavrolite",
ГРИГОРЬЕВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА – кандидат политических наук, шеф-редактор журнала «KANT», Издательство «Ставролит»
GRIGORIEVA MARINA ANATOLIEVNA – СSc in Political Sciences, Chief-editor of the scientific journal «KANT», Publishing house «Stavrolit»
Наши отношения с окружающей средой обитания, опосредованные вторжением электрического света, навсегда изменились. Восторг, с которым в 1964 году Маршалл Маклюэн предвидел очертания грядущих грандиозных возможностей мгновенной скорости для передачи информации [12], к 1980 году сменяется для него чередой разочарований. Плоды познаний, обещающие, как он надеялся, осветить весь мир и сбросить завесу тайны, укрывающую его, оказались отравленными, а человек, оказывается, не предназначен для жизни со скоростью света, которая, по его словам, «изолирует и без того фрагментированных участников коммуникации» [11, c. 32]. В результате ускорения мы можем рассчитывать только на социальные побочные эффекты, связанные с отсутствием привязанностей и утратой нити коммуникации на фоне растущей миграции реальности в область киберпространства. Поэтому последующие десятилетия неизбежно будут сопряжены с процессами перерасселения и столкновения культур, исходом географии и самого пространства, отступающего перед полотном времени. По крайней мере, в ожидании трансатлантического перелета или поездки на поезде из Москвы в Нью-Дели первым делом мы бросаемся к «часам», а не к «кило- метрам», если только не планируем пешие прогулки. Расстояние теперь воспринимается как простая условность, точно так же, как и заоблачная высота, на которую «забирается» самолет, не приводит нас в оцепенение, пока мы, исполняя роль его добровольных узников, слепо следуем заданному маршруту. Таким образом, область пространства теперь, в определении Поля Вирильо, обусловлена тем, что из темноты выхватывает «луч» искусственного света [15, c. 46]; «освещенная и выделенная прожектором», она по-настоящему существует для нас в этот момент, тогда как всё остальное остается в зоне невидимости. Светящиеся плоскости экранов и скорость «света», на которой они поставляют информацию, закономерно сужают и уплощают мир.
К тому, что мир в нашем восприятии становится плоским, впервые в своих эссе и статьях обращается Вилем Флюссер [6; 8]. Его мысль отталкивается от того, как мы смотрим на невозмутимую гладь атласа с нанесенными не нее изгибами рек, океаническими течениями, линиями гор и спящих вулканов. Расположившись на бумаге, они только подразумевают рельефность, но не обнажают глубины пространства [8, с. 1, 9]. И когда Поль Вирильо приступает к проблеме истончания оптической толщины ландшафта мира перед всепоглощающей емкостью экрана, можно сказать, что она [проблема] досталась ему практически нетронутой. Начиная с 1983 года, он обращается к ней, по крайней мере, в пяти работах [14; 15; 16; 17; 19]. Когда речь идет о Вирильо с его симфоническим звучанием, в котором смысл и ритм нарастают с каждой строкой, очевидно, что он рассчитывает на наше воображение, чтобы мы могли хорошо представить, как «линия горизонта, ограничивающая перспективы наших путешествий, сливается теперь с горизонтом экрана или иллюминатора» [16, c. 76]. Возможно, по той же причине – музыкальности слога – «Информационная бомба» Поля Ви-рильо и его «Машина зрения» пока не попали в поле видимости читателя настолько, насколько Ролан Барт и Жак Деррида, Жиль Делёз и Жан Бодрийяр. Поэтому его наследие только предстоит разбирать.
За последние два года в отечественной науке ему были посвящены, по крайней мере, две работы. Это вступительное слово К. Б. Романова и Д. Берка [4], предваряющее публикацию серии лекций Поля Вирильо в Ла-Рошель в 2007 году, и обзорная статья А. Б. Николаевой [3], построенная вокруг анализа информационного насилия и тревожных симптомов настоящего. Ранее к аспектам телесного измерения опыта у Вирильо и, в общем, к тому, как строятся наши отношения с вещами и пространством через прикосновение, через объем, массу, плотность и протяжение, обращается А. М. Сидоров [5]. В большинстве случаев анализ затрагивает наиболее известные труды Вирильо и практически не включает его поздние эссе и статьи. Так, С. Редхед [13] разбирает искусство катастрофы в «Оригинальной аварии», идею написания которой Вирильо вынашивал более десяти лет и смог приступить к ее воплощению уже после выхода на пенсию и отъезда из Парижа на побережье в Ла-Рошель. Полная смена обстановки стала для него чем-то наподобие кораблекрушения, так как клаустрофобия долгое время не позволяла ему предаваться путешествиям.
Поэтому он, как никто другой, способен был проникнуться концепцией Мишеля де Серто [7, c. 113] о временном заключении пассажира внутри железной клетки вагона поезда, по-своему раскрывающей образ пространства, проплывающего снаружи.
Для Вирильо события, предшествующие аварии, носят неотвратимый характер, заложенный в устройстве любого технического объекта, который буквально движется навстречу крушению и катастрофе. В свою очередь, абсолютную скорость света и электромагнитных волн можно представить как огромный поезд и, значит, как «идеальное» условие для того, что может произойти одновременно со всем миром, – информационный взрыв в результате несоблюдения скоростного режима и утраты контроля над ситуацией. Поэтому Д. Хилл [9] устанавливает фокус именно на жажде скорости, под давлением которой мы теряем пространство и нашу оценку пространственных мест и вещей. Отношениями между пространством и временем, по версии Вирильо, находящимися на грани тотального разрыва, в равной степени увлекается и Ли Тянь [10], но он разворачивает анализ в сторону того, что технологии постепенно отказывают нам в необходимости вести подвижный образ жизни. Так что утратившее активность «тело уже не переплетается с физическим телом мира» [10, c. 109] и теряет связь – как с ним, так и с социальной тканью. Акт коммуникации сводится к чисто инертному приему и пассивной передаче сигналов и носит процедурный характер.
Будучи архитектором и критиком технического искусства, Вирильо находит признаки нарушения коммуникации и в том, как перекраивается облик городской среды, в визуальном шуме которой ведение диалога становится невозможным. Громоздкие плиты рекламных щитов, змеящиеся линии бегущих строк, бесчисленные гнезда одноглазых камер видеонаблюдения, скрывающихся за оскалом вывесок, привносят новую перспективу, лишенную горизонта и меняющую традиционные концепты «границы» и «поверхности».
По крайней мере, линия улицы, прежде устремлявшаяся по направлению к центральной площади, втекает теперь прямиком в преграждающий ей путь билборд. Нарушение структуры города и его перекройка, погружение ансамбля зданий в воинственное противостояние друг с другом – нечто большее, чем дисгармония. Оно обозначает «смену великого нарратива» с его последовательностью причин и следствий упадком «общих идеалов и протооснования смысла Истории» [14, c. 17], в результате которого появляются ограниченные и оторванные друг от друга микронарративы. Лишенная беспрерывности История, по Вирильо, влечет кризис размерности, кризис целого, обнажающего распад фигуры и случайные связи.
Свои наблюдения за меняющейся картиной города в 1983 году Вирильо собирает под обложкой «Кризис измерений» [14]. Рукопись состоит из четырех частей: «Пересеченный город», «Морфологический взрыв», «Невероятная архитектура» и «Потерянное измерение». Здесь заложены идеи, которые он разрабатывает в последующих эссе. Всё, что имеет отношение к концепции «уплощения Земли», условно можно поделить на три сектора: 1) близость и дальность как ориентация в пространстве и связь с местом; 2) прозрачность и объем как условия переживания наличия и отсутствия, наполненности и пустоты; 3) предел и безграничность как опыт восприятия безопасности.
Опыт взаимодействия с физическим пространством позволяет нам оценивать его с позиции «далеко» и «близко». Мы снова вынуждены вернуться к началу, чтобы поверить в то, что «Земля плоская», когда оптика оседлала и колонизировала наши органы зрения. Микроскопы и телескопы увеличивают бесконечно малое до огромного, превращают бесконечно далекое в близкое. Благодаря этому плоские экраны способны устроить встречу-телемост Сатурна с инфузорией-туфелькой. По крайней мере, когда разрыв между «дальним» и «ближним» постепенно исчезает [14, c. 5], горизонт на экране обра- щается в линию, которая «существует только для того, чтобы подтвердить для нас относительную плоскость реального пространства» [19, c. 97]. А изображение рельефа на снимке со спутника только подразумевает впадины и возвышенности, осознать которые до конца невозможно, не ощутив на себе их физического присутствия, поэтому иллюзия «здесь и там» оказывается краткосрочной. Электронно-лучевой экран стирает эти оппозиции, когда фактически изображение, «где тени и призраки танцуют, предвкушая скорое исчезновение» [14, c. 19] из поля видимости, неподвижно застыло на стене и не меняет своего местоположения. В этот момент ландшафт, предъявленный на экране, терпит поражение в попытке доказать наличие не просто объектов, меньших размеров или больших, но того, что воздействует на изменение их размеров – расстояние и перемещение в пространстве.
Сохранение оппозиций – таких как день и ночь, свет и мрак, глубина и поверхностность, статика и движение – необходимо не только для удержания баланса, который нарушается с растяжением суток за счет повсеместной электрификации в ночное время. Еще в большей степени это нужно для того, чтобы сформировать нашу способность ориентироваться в мире, овладеть «схемой ориентации» [1, с. 111] в пространстве. Поле зрительного восприятия, не зависящее от дня и ночи, постоянно в состоянии мобилизации, а бесконечный поток образов держит его в напряжении, пока рефлексия уступает место рефлексу «смотреть». Время для размышлений ослабляется требованиями мгновенного реагирования. Искажение восприятия пространства кардинально меняет мышление и порождает «кризис ориентиров» (в том числе этических и эстетических), «неспособность подвести итоги событий в среде, где видимость против нас» [14, c. 16]. Растущая диспропорция между информацией, поставляемой медиа, и непосредственно полученным опытом взаимодействия со средой имеет тенденцию необдуманно отдавать предпочтение первому перед вторым. В то время как именно непосредствен- ный опыт позволяет нам стать частью чего-то, быть дома, покидать его или направляться к нему, отсылающее к переживанию разрыва или воссоединения, нарушению или восстановлению коммуникативных связей с местом [18, c. 40] и его обитателями и позволяющее убедиться в наличии и отсутствии чего-либо. Прозрачность Поль Вирильо видит за обезображивающими образ города изображениями [16, c. 76–78], за которыми скрываются нарушение его монументальности и утрата физической опоры, рельефности, присущей ему статики, постоянства и объема [14, c. 69–72]. Это обостряет и разрушает устоявшиеся материальные структуры. Кроме того, Поля Вири-льо беспокоит «отсутствие ворот и городской ограды» [14, c. 4], так что невидимая черта города делает невозможным определить, где находится вход и выход, здесь и там. Город без дверей начинается с осознания тревоги, охватывающей тех, кто возвращается из длительного отпуска и боится обнаружить, что их дом разграблен. Лишенный своих объективных границ архитектонический элемент начинает «дрейфовать, плавать в электронном эфире» [14, c. 4], где в поле видимости попадает только то, что освещено световым излучением приборов. Соответственно, в нем уже невозможно укрыться, оставаться в безопасности, очевидно, связанной с осязанием пределов, опоры непроницаемых стен, окутывающих тайной частную жизнь. В отличие от предела, «безграничное» не имеет конкретных координат и измерения и направлено на постоянное расширение.
В заключение можно сказать, что пространство, исключенное из опыта видимости, если оно не находится под присмотром осветительных приборов, перестает существовать, уступая свое место ритму и скорости, то есть машинному времени и его влиянию на среду, коллективные практики общения и коммуникацию в постиндустриальной современности. Техника, пережевывающая пространство и сужающая его благодаря совершенствованию системы транспорта, погружает нас в тотальное мироотрицание, следующее из непри- ятия того, что мир непостижим и громаден.
Это равнодушие по отношению к тому, что нас окружает, то есть к среде, переключается и на социальное пространство, состоящее из лишенных смысла мгновенных непоследовательных коммуникаций, что знаменует собой конец внешнего мира, или «забвение пространства ради единственного преимущества настоящего момента» [17, c. 18]. При этом ландшафт, отвечающий за нашу способность ориентироваться в мире, восприятие расстояния – того, что располагается дальше или ближе – определяет нашу связь с воспоминаниями, ощущением близости и сопричастности, памятью о доме и счастье. Отступление его (перед магнетическим светом экрана) кардинально меняет мышление и, следовательно, дезориентирует в пространстве, парализует воспоминания, навязывает чувство бесприютности, угрожает дефицитом счастья, синдромом хронической усталости и потерей потребности в привязанностях. В определенном смысле миграционные процессы вызваны лихорадочным поиском утраченной связи с пространством и невозможностью воссоединения с ним.
Тем временем пустота, образовавшаяся на том месте, которое прежде занимал непостижимый рельефный ландшафт, требует восполнить утраченное в прежнем объеме. Плоскость экрана, нечувствительная к человеческим потребностям и неспособная предложить что-то равноценное чувствам, замещает их симуляцией – вещами, обещающими мгновенный восторг, уходящий, тем не менее, так же быстро, как и приходящий. При этом сами вещи стремятся скрыть свое присутствие в пространстве, начиная с самих экранов, толщина которых в скором времени достигнет толщины листа бумаги. В результате ложный марш технокультуры, возникший из смертельных ловушек прогресса, которые обещали новый безопасный мир, расплющит Землю и наше представление о пространстве, делая его видимым только под присмотром искусственного света и на сияющей поверхности экранов.
Список литературы Поль Вирильо и «плоская земля» в поле видимости: к проблеме изменения восприятия пространства
- Гаврилина Л. М. «Дух Места» современного города как экзистенциальная потребность // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2023. № 5 (115). С. 110-120.
- Григорьева М. А. Феноменологическое раскрытие географического пространства Эриком Дарделем // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2023. № 5 (115). С. 60-65.
- Николаева А. Б. Персона ученого сквозь его концепции: обманная реальность мирного времени в философских исследованиях Поля Вирильо // Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. 2022. № 3 (36). С. 36-40.
- Романов К. В., Берк Д. Идейное наследие Поля Вирильо // Экопоэзис: экогуманитарные теория и практика. 2022. Вып. 3, № 1. С. 18-27.
- Сидоров А. М. Поль Вирильо: тело, скорость и современное искусство // Вестник ЛГУ им. А. С. Пушкина. 2012. Вып. 2, № 3. С. 137-144.
- Флюссер В. Мой Атлас / пер. с англ. М. А. Григорьевой // KANT: Social science & Humanities. 2023. № 3(15). С. 4-9.
- de Certeau M. The practice of everyday life / translated by Steven Rendall. - London: University of California Press; Berkeley Los Angeles, 1988. 230 р.
- Flusser V. Skin // Flusser Studies 02. Pp. 1-9. URL: https://flusserstudies.net/
- Hill D. W. Speed and pessimism: moral experience in the work of Paul Virilio // Journal for Cultural Research. 2019. 23:4. Рр. 411-424.
- Li Tian. Phenomenology of the Speed of Light: Paul Virilio's Philosophy of Speed and Critique of Moder-nity[J] // Theoretical Studies in Literature and Art. 2023. № 43 (4). Рр. 104-114.
- McLuhan M. Living at the Speed of Light // MacLean's Magazine. 1980, January 7. Рр. 32-33.
- McLuhan M. Understanding Media: The extensions of man. - London and New York: Gingko Press, 2003. 396 р. URL: https://designopendata.files.wordpress.com/2014/05/understanding-media-mcluhan.pdf
- Redhead Steve. The Art of the Accident: Paul Virilio and Accelerated Modernity // Fast Capitalism. 2006. Vol. 2, № 1. Рр. 11-18.
- Virilio P. La crise des dimensions. La représentation de l'espace et la crise de la notion de dimension. [Rapport de recherche] 173/83, Ministère de l'urbanisme et du logement / Secrétariat de la recherche architecturale (SRA); École spéciale d'architecture / Unité de recherche appliquée (UDRA). 1983. ffhal-01886684f. URL: https://hal.science/hal-01886684/document
- Virilio P. La lumière indirecte // Communications. Fait partie d'un numéro thématique: Vidéo. 1988. № 48. Рp. 45-52. URL: https://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_1988_num_48_1_1719
- Virilio P. Le privilège de l'œil // Quaderni. 1993. № 21. Pp. 75-88. URL: https://www.persee.fr/doc/quad_0987-1381_1993_num_21_1_1040
- Virilio P. Les perspectives du temps réel // Chimères. Revue des schizoanalyses // Chimères. Revue des schizo-analyses. 1991. № 11. Pp. 15-26. URL: https://www.persee.fr/doc/chime_0986-6035_1991_num_11_1_1746
- Virilio P. L'horizon négatif. Essai de dromoscopie. Paris: Éditions Galilée, 1984. 308 р.
- Virilio P. Une anthropologie du pressentiment // L'Homme. 2008. no 185-186. L'anthropologue et le contemporain: autour de Marc Augé mis en ligne. Рр. 97-104. URL: http://journals.openedition.org/lhomme/24119