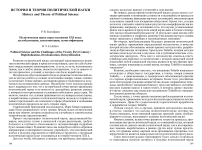Политическая наука перед вызовами XXI века: деглобализация, деколонизация, демистификация
Автор: Евстифеев Р.В.
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: История и теория политической науки
Статья в выпуске: 1 (79), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринята попытка применить исторический подход для описания вызовов, с которыми сталкивается политическая наука в XXI в. Рассмотрение проблем политической науки ведется с позиций признания и понимания нелинейности процессов научного познания, с применением методологии «вызова-и-ответа», в рамках которой описываемые вызовы носят внешний для политической науки характер. В статье выделены три основные вызовы: деглобализация, деколонизация, демистификация. Каждый из них имеет собственный генезис, однако все они в значительной степени пересекаются и усиливают друг друга. Вызов деглобализации заставляет политическую науку пересматривать существенные научные достижения и результаты, основанные на явлениях и событиях последних 40 лет, в течение которых глобальные процессы казались всеобъемлющими и долговременными. Накопленный багаж проблем и провалов, связанный с либеральной моделью глобализации, делает эту задачу необходимой, но и весьма масштабной. Деколонизации знания ставит под сомнение гигантский объем знаний, выработанный в период становления и развития колониальной системы. Политическая наука пока не восприняла этот вызов во всей его сложности, но этот выбор придется сделать в ближайшее время. Демистификация, радикально отражающая противостояние научной истины и «удобного знания», обращает внимание на то, что «групповые эпистемологии» в современном обществе часто становятся важнее научного знания. В статье ставится вопрос о том, найдутся ли силы внутри политической науки, чтобы заметить обозначенные вызовы, трезво их оценить и профессионально на них ответить.
Политическая наука, исторический подход, цивилизационный подход, страна-цивилизация, вызов, эпистемология, гегемония, доминирование, деглобализация, деколонизация, демистификация
Короткий адрес: https://sciup.org/149145590
IDR: 149145590 | DOI: 10.54770/20729286_2024_1_108
Текст научной статьи Политическая наука перед вызовами XXI века: деглобализация, деколонизация, демистификация
Political Science and the Challenges of the Twenty First Century: Deglobalization, Decolonization, Demystification
Развитие политической науки, изучающей закономерности развития политической сферы в прошлом и настоящем, само по себе подчинено определенным закономерностям, то есть, по сути, политическое знание, как и любое знание, является историчным, то есть зависит от тех исторических условий, в которых оно было выработано.
Исторически обусловленный взгляд на развитие политической науки не всегда удобен в условиях политизации знания, однако, именно он позволяет точнее оценить достижения науки и объективность полученных исследователями данных. Неудобство этого подхода прежде всего выражается в том, что с исторической точки зрения зарождение политической науки и во многом ее дальнейшее развитие связано с конкретно-историческими условиями небольшого ряда стран. Во многом, именно эти условия принимаются за универсальные нормы, а выработанные в рамках политической науки подходы и теории начинают претендовать на гегемонию в сфере объяснения и понимания политических процессов во всех странах мира.
Современный британский исследователь Марк Бевир выражает даже более радикальную точку зрения, бросая вызов политической науке как знанию, которое полагается на случайные и сомнительные теоретические предположения1.
Проект «историзации» политической науки, предложенный Бе-виром, находится только в начальной стадии реализации, требует большого и глубокого обоснования (о позиции Бевира подробнее будет сказано ниже). В данной статье мы попробуем пойти в обратном направлении и предпримем попытку опрокинуть этот исторический подход в будущее, рассмотрев те проблемы и трудности, с которыми политическая наука будет сталкиваться во второй четверти XXI в.
Для того чтобы обозначить и описать эти проблемы, нам придется сделать несколько важных уточнений и допущений.
Во-первых, рассмотрение политической науки следует вести с позиции признания и понимания сложности и нелинейности процессов научного познания, фиксации научных достижений, имплементации полученных знаний и их восприятия обществом2. Кроме того, сегодня нельзя не учитывать значительные результаты саморефлексии науки, приведшие, например, к осознанию того, что научно установленные факты часто являются продуктом самой науки даже в больше степени, чем частью объективной реальности3. В результате даже вполне себе внешне спокойное и уверенное развитие (эволюция) научного знания может приводить к ошибкам и эволюционным ловушкам4.
Во-вторых, проблематизация будущего развития политической науки требует применения определенной методологии, в качестве которой вполне обоснованно можно принять методологию, разработанную британским историком Арнольдом Тойнби, которая сегодня активно используется как в научном, так и публицистическом и политическом дискурсах. Речь идет о методологии «вызов-и-ответ» (challenge-and-response), в соответствии с которой движущей силой изменений любой социальной системы являются не внутренние причины, а резкие изменения условий жизни, которые Тойнби и называет «вызовом»5.
Конечно, необходимо заметить, что концепция Тойнби изначально относилась к обществам и государствам, а точнее, говоря словами Тойнби, — к цивилизациям, и подвергалась обоснованной критике со стороны профессиональных историков. Более того, российская интеллектуальная традиция опирается на сильно сокращенные переводы масштабного двенадцатитомного труда английского историка (русское издание вышло в одном томе!), в котором, кроме «вызова-и-ответа» описаны еще несколько механизмов (Тойнби их называет movements) развитие обществ.
Тем не менее, с точки зрения описания проблем развития политической науки, применение методологии вызова представляется вполне приемлемым. Даже без существенной теоретической проработки и переработки теории Тойнби.
Отсюда следует, что, в-третьих, принятие методологии «вызова-и-ответа» означает, что вызовы политической науке, которые мы будем описывать, носят внешний характер, приходят извне, требуют широкого взгляда, выходящего за рамки политической науки.
Иными словами, нужна точка зрения не только на процессы, происходящие внутри политической науки, но и внешний взгляд, который основан как на данных самой политической науки, так и на современных знаниях, выработанных в рамках других наук; нужно представить, что границы между науками легко проницаемы, прозрачны, а их пересечение не является наказуемым методологическим проступком.
Такое интеллектуальное предприятие будет сильно отличаться от имеющихся попыток заглянуть в будущее политической науки и выделить основные направления ее развития, которые не раз предпринимались многими исследователями6. И почти все эти попытки методологически были основаны на экстраполяции тенденций прошлого с учетом некоторых наиболее острых проблем настоящего, терзающих политическую науку, причем главным образом — в США и странах Западной Европы.
Весьма показательно, что по данным исследовательской компании “Research.com”, занимающейся оценкой и составлением рейтингов ведущих ученых в широком спектре научных дисциплин, в списке лидирующих исследователей в сфере права и политической науки (596 человек) доминируют ученые из США (59,6% от числа ранжированных ученых)7.
Далее следуют ученые из Великобритании (156 ученых или 15,6%), Германии (37 ученых или 3,7%), Австралии (36 ученых или 3,6%), Канады (33 ученых или 3,3%) и Нидерландов (23 ученых или 2,3%).
Уже такой весьма поверхностный взгляд на современное состояние политической науки показывает неравномерность развития этой отрасли знания, в основе которой продолжают лежать условия и интеллектуальные традиции стран, в которых политическая наука появилась и институализировалась.
Вполне возможно было бы назвать такое состояние истинной трагедией политической науки, имея ввиду уже не разрыв между профессиональными политическим знанием и социально-политической жизнью, о котором более 40 лет назад писал Дэвид Ричи8, а разрыв/ раскол, который пролег между основными направлениями академических исследований политики, которые основаны на ценностях и историческом опыте конкретного ряда стран и обществ, с одной стороны, и потребностями большинства других стран в понимании и осмыслении политической сферы, с другой стороны. Поскольку обоснование этого разрыва не входит в задачи данной статьи, ограничимся замечанием о том, что подробное описание данной трагедии дело совсем недалекого будущего.
Возвращаясь к вызовам политической науки, следует отметить, что проведенный анализ научной литературы последних десяти лет позволяет выделить многообразие важнейших тем, вокруг которых шли и продолжают идти самые острые дебаты.
В рамках данной статьи можно выделить, по крайней мере, три вызова, порожденных бурлящими конфликтами вокруг политической науки, за каждым из которых стоят острые споры и развивающиеся линии расхождений и столкновений:
-
1. Деглобализация.
-
2. Деколонизация.
-
3. Демистификация.
На наш взгляд, развитие политической науки в ближайшие годы будет зависеть от ответов, которые наука и общества дадут на эти вызовы.
Деглобализация. Всерьез и надолго?
Трудно назвать какое-то другое явление, которое сильнее бы повлияло на развитие политической науки в XX в., чем глобализация. Однако то, что казалось долгосрочным и неискоренимым 30 лет назад, в начале XXI в. уже не кажется таким же позитивным и необходимым.
Глобализация как термин и как предмет научного рассмотрения приобрела популярность во второй половине XX в. Осознание происходящих изменений как имеющих глобальный характер породили массу исследований и теорий, пытавшихся дать свое объяснение возникающим тенденциям. При этом глобализацию чаще всего рассматривали как общие для большинства государств изменения в социальной, политической, экономической и культурной сферах, то есть своеобразный магистральный путь развития человечества. В качестве общей политической формы такой глобализации рассматривалась либеральная демократия.
У такого понимания глобализации были определенные основания, связанные с объективными процессами усиления и упрочения связей между странами и обществами, и описываемыми многими исследователями тенденциями к формированию космополитического глобального общества будущего9.
Политическая наука довольно успешно существовала и развивалась в условиях глобализации, используя преимущества и ресурсы растущих взаимосвязей между странами и исследователями, по сути, встраиваясь в неолиберальный дискурс так называемой «американоцентричной модели» глобализации. Однако навязывание всему миру западных либеральных ценностей как обязательного условия глобализации приводит к обратному процессу, вынуждая политиков прибегать к тактике популизма для утверждения и возвращения суверенитета своей стране10. Да и сами либеральные ценности оказались далеко не такими цельными и устойчивыми, особенно при столкновении с растущими видами неравенств, запросами разнообразных социальных групп и т.д.
В результате представлениям о глобализации как о равномерном распространении благ глобализации по планете и развитии демократии противостояли идеи, согласно которым глобализация является ареной ожесточенной борьбы различных тенденций, олицетворяемых определенными государствами и межгосударственными образованиями, причем результат этой борьбы предсказать очень сложно, можно лишь примерно очертить позиции сторон и предположить, что будет в случае превалирования какой-то из них11. Эти теории акцентировали внимание на неравенствах, порождаемых глобальными процессами («ворота в глобальный мир»)12, на производстве новых типов дискриминации и эксплуатации, развитии своеобразного «глобального апартеида»13, вплоть до возникновения «глобальной империи», то есть такого мироустройства, в котором сохраняется доминирование одной сверхдержавы, предопределяющее гомогенизацию мирового сообщества на принципах западной культуры14.
Оба описанных подхода уже в начале XXI в. подверглись усиленной эрозии, так как с их помощью трудно было найти адекватные объяснения происходящих в мире изменений и кризисов. Это потребовало внесения существенных корректировок и изменений в теории глобализации. Наиболее мощные вызовы этим теориям можно свести к четырем позициям, выраженным в метафорическом виде15.
Во-первых, — «возвращение истории», понимаемое как отказ от концепции «конца истории», затухание казавшихся «волн демократизации», выход на историческую арену «великих авторитарных держав», возвращение конкурентной борьбы между странами Запада и странами с нелиберальными политическими режимами.
Во-вторых, — «возвращение государства» как возможность разрешения конфликта между эффективностью национального государства и развивающейся экономической, культурной и политической глобализацией.
Период подчинения наций-государств целям и правилам международных финансовых рынков, интернационализированного бизнеса и капитала, приведший к периоду «вымывания государства», сменился в начале XXI в. тенденцией усиления национального государства.
В-третьих, превращение глобализации в глобализацию с «не западным лицом». Приобретение глобализацией в силу указанных выше причин “non-Western face» («незападное лицо») привело к формированию новой конструкции, в которой западным обществам приходится принимать новую реальность и быстро обучаться новым стандартам.
В-четвертых, превращение биполярного мира в «бесполярный беспорядок» (“unpolar disorder”)16. В этом возникающем новом миропорядке полюсом силы неожиданно и ненадолго может стать любое государственное и негосударственное образование. Данный вызов во многом определяет не только контуры внешнеполитической доктрины государства, но и все внутриполитическое устройство, крайне зависимое сегодня от претензий страны на определенное место в стремительно меняющейся иерархии общепланетарного масштаба.
Обозначенные глобальные вызовы, проявившиеся в самом начале XXI в., к концу его первой четверти существенно повлияли и изменили течение глобальных процессов и осмысление глобализации в целом.
Часть исследователей вполне резонно обращают свое внимание на то, что глобализация — не новое явление для истории человечества, утверждая, что глобализационные процессы в той или иной степени всегда были свойственны. Речь идет о масштабных событиях, начиная с возникновения античного мира и заканчивая крушением колониальных империй в конце XIX — начале XX вв. Изучение такой «продолжающейся» глобализации позволяет встроить современные процессы в историческую рамку, обнаружить общее и особенное, 112
установить закономерности и сделать прогнозы17. Вполне возможно, что в самой эволюции глобализации заложены периоды ее усиления и периоды ослабления глобальных связей. Если это так, то нынешний переживаемый миром этап носит временный характер и вскоре глобальные процессы опять начнут усиливаться.
Однако, в начале 20-х гг. XXI в. в мэйнстрим дебатов о глобализации начинают попадать идеи о кризисе глобализации или даже о ее финальной стадии18.
Можно выделить по крайне мере три возможных взгляда на деглобализацию, каждый из которых определяющим образом может влиять на развитие политической науки.
-
А) Глобализация сломалась!
Первый взгляд, самый радикальный и пессимистический, рассматривает происходящие социальные, экономические и политические кризисы, которые вынуждают национальные государства частично и даже полностью закрывать свои границы, как конец глобализации.
Деглобализация, таким образом, рассматривается как полный отказ от глобализации, как «глобализация, идущая в обратном направлении»19, как «процесс уменьшения взаимозависимости и интеграции между определенными единицами по всему миру, обычно национальными государствами»20.
Распадающиеся по разным причинам связи и глобальные сети требуют «восстановления национальных барьеров для торговли, инвестиций и миграции; переориентации и сокращения цепочек поставок; движение к эксклюзивным региональным торговым блокам и сферам влияния великих держав»21. Таким образом, деглобализация — это движение к менее взаимосвязанному миру, в котором действуют мощные национальные государства, с четкими границами и контролем над ними, а не глобальные институты22.
Более того, деглобализация меняет социальное и политическое содержание нынешней глобальной политики. Оспаривание легитимности сложившегося либерального мирового порядка и механизмов глобального управления основано на уверенности в том, что мировой порядок и его институты, как правило, отражают западные интересы и нормы. В результате для многих исследователей деглобализация означает распад глобальных механизмов и институтов управления под руководством Запада.
Однако отказ от глобализации вряд ли ведет к более справедливому миру, в котором будет сокращено неравенство. Скорее всего, для этого потребуются какие-то дополнительные такты развития после достижения деглобализационного равновесия.
Отметим, что в целом исследователи весьма скептически относятся к полной остановке процессов глобализации, отмечая, что деглобализация носит ограниченный и временный характер23.
Тем не менее, широкое внедрение в политическую повестку темы деглобализации в различных ее вариантах, безусловно, оказывает свое влияние и на академические дебаты, и на направления развития политической науки.
Б) Глобализацию можно починить!
Ряд исследователей видят в деглобализации возможности для изменения сущности глобализации через ее децентрализацию. В этом смысле деглобализация понимается как политический проект освобождения от западного неолиберализма, лежащего в основе нынешней траектории глобализации24. Деглобализация рассматривается как освободительный проект, призванный спасти нацию, государство и человека от пагубных последствий глобализации, которые усиливают неравенство, лишения и насилие между нациями, регионами, классами и людьми25.
Однако такой проект не обязательно предполагает конец глобализации, настаивая не на отделении от международной экономики, а в уменьшении зависимости от иностранных инвестиций и производства на экспорт, а также производства для местного рынка за счет внутренних ресурсов. Иными словами, такая деглобализация предполагает, с одной стороны, деконструкцию механизмов глобального управления, а с другой — развитие управления посредством «глобализации снизу».
В целом можно отметить, что такая деглобализация скорее направлена на реформирование глобализации или «реглобализацию»26, своеобразное обновление, возвращение сбившейся с курса глобализации на твердый и правильный путь. В этом смысле реглобализация означает попытки реформирования, пересмотра или обновления «классической» глобализации27.
В этом направлении существуют различные проекты, которые условно можно обозначить как «правые» и «левые». Для обоих проектов характерно стремление завершить или минимизировать влияние возглавляемой Западом глобализации. Проекты «правой» деглобализации отстаивают необходимость неонационалистической тенденции деинтернационализации и ренационализации, тогда как «левая» деглобализация основывается на внешне прогрессивных идеях, в центре которых более справедливые отношения человечества и природы, взаимоотношения между государствами, обществами и различными социальными группами.
Несмотря на то, что пока не наблюдается каких-то существенных теоретических сдвигов в обосновании новых тенденций, тем не менее, само по себе рассмотрение нынешней глобализации с критической точки зрения следует признать полезным и эвристически ценным28. Представляется, что наиболее приемлемым ответом со стороны политической науки на вызовы деглобализации является признание 114
необходимости существенных изменений в основах, направлениях и характере глобальных процессов.
-
В) Глобализация вообще не главное!
Обозначенные выше тенденции не исчерпывают возможные ответы политической науки на вызовы деглобализации.
Одним из ярких таких ответов, переводящих внимание исследователей на внутреннее развитие общества, может стать набирающий популярность так называемый цивилизационный подход к рассмотрению социально-исторических процессов.
Ослабление национального государства, которое уступало часть своих функций международным институтам, в конце XX в. обострило вопросы сохранения независимости и суверенитета. После десятилетий ожидания «исчезновения» государства, тесно связанным с глобализацией, в начале XXI в. часть исследователей, в основном из стран, которые можно назвать «незападными», обратились к возможностям цивилизационного подхода к рассмотрению истории как альтернативе западноориентированной глобализации.
Как отмечается многими авторами, «цивилизация» вернулась на передний край глобальных политических дебатов, причем как среди политиков, так и среди публицистов и экспертов, а также в академической среде29.
Однако современные дискуссии о цивилизациях довольно сильно политизированы, основаны на апелляциях к историческому прошлому для поддержания современных амбиций и политических планов, что часто приводит к поляризации внутри общества30. При этом существенным образом меняются акценты рассмотрения обществ и даже смысл самого понятия «цивилизация», которое прошло довольно долгий эволюционный путь31.
Как известно, цивилизационный подход был обоснован в период упадка и распада империй, когда исследователи, усложняя упрощенное разделение мира на Восток и Запад, описывали характеристики «культурно-исторических типов», причем на довольно разных основаниях — от расы до религиозных систем32. Исторические и пространственные границы культурно-исторических типов (цивилизаций) у разных авторов сильно отличались друг от друга, их содержание было весьма противоречивым. Довольно долго эти теоретические построения находились на периферии научного знания.
Трагический распад империй и развитие национальных государств в мире еще более отодвинул цивилизационный подход от мэйнстрима социальных наук, несмотря на популярность некоторых авторов, таких как Освальд Шпенглер и Арнольд Тойнби33.
Однако эпоха доминирования национальных государств была сильно потревожена глобализацией, что привело к взлету популярности взгляда на мировую историю как на историю цивилизаций, а не государств34.
Такой взгляд позволил С. Хантингтону предложить объяснительную модель продолжающихся и нарастающих конфликтов между странами и обществами в виде концепции «столкновения цивилизаций». Ее суть кратко можно описать следующим образом: развитие национальных государств не ведет к исчезновению противоречий и конфликтов, поскольку в основе этих противоречий лежат различия между цивилизациями, разломы между которым становятся линиями идущих и будущих международных столкновений.
От теоретической рамки «столкновения цивилизаций», предложенной в начале 1990-х гг. прошлого века С. Хантингтоном, исследователи переходят к концепции «страны-цивилизации», как попытке совместить уникальность определенного общества и возможности национального государства в современном миропорядке.
В начале XXI в. цивилизационные подход получает новый импульс для развития в виде концепции «страны-цивилизации».
Наиболее ясным образом эта концепция выражена в работах исследователя из Китая Чжан Вэйвея35. Основанная идея, которую выдвигает Вэйвей, состоит в том, что бурное развитие Китая в последние 40 лет связано с созданием государства нового типа — государства-цивилизации.
Как пишет Вэйвэй, «каменистый путь Китая к национальному государству завершился созданием страны-цивилизации», в основе успехов которого — успешная борьба с бедностью, беспрецедентный рост среднего класса, развитие рынка, своя собственная политическая система.
Идеи Вэйвея стали довольно популярными во многих странах мира, особенно в тех, в которых возникла потребность отстаивать свой суверенитет и уникальность, обосновать свою независимость от «Запада». Концепция «страны-цивилизации» оказалась довольно привлекательной для целого ряда стран, таких как Индия, Турция, Египет, Россия, некоторые странах Латинской Америки36. Для этих стран характерно, во-первых, относительно древняя история, на которую можно опираться; во-вторых, явное неудовлетворенность занимаемым местом в современном миропорядке; в-третьих, политическими амбициями руководства, связанными с необходимостью поддержания суверенитета и сохранения политической стабильности.
Однако эти концепции, на наш взгляд, пока находятся в поиске баланса между научностью, теоретической проработкой концепции, с одной стороны, и степенью политической ценности данного концепта для политических режимов.
Подводя некоторый итог данного раздела, стоит отметить, что деглобализация в любом ее проявлении существенным образом влияет на развитие политической науки, заставляя исследователей определяться в своем отношении к производимым глобализацией эффектам и результатам, в оценках основных характеристик либеральной 116
модели глобализации, а также в путях преодоления противоречий, порождаемых глобализацией.
Вызов политической науке со стороны деглобализации, таким образом, формулирует целый ряд вопросов к уже имеющемуся корпусу научных достижений и знаний, в центре которых целый ряд допущений об универсальности целей, институтов и механизмов политической организации общества, выработанных в рамках евро-американской политической системы в период становления и развития глобализации.
Деколонизация. До основанья, а затем?
Как отмечалось в предыдущем разделе, деглобализация как проект во многом основан на признании упадка норм и стандартов западного типа, которые не только сформировали процессы глобализации в эпоху после Холодной войны, но и заняли доминирующее социальное и политическое положение в политической науке.
В данном разделе мы попробуем оценить процессы смены этих норм и стандартов и их влияние на политическую науку, рассмотрев некоторые идеи, выработанные в рамках быстро развивающейся методологии деколонизации знания.
Деглобализация во всех ее проявлениях, несомненно, открывает новые возможности для вызова западной гегемонии не только в экономике и в политике, но и производстве знаний в целом, позволяя выйти на арену и обрести голос тем, чье прошлое и «способы познания» были «похоронены» западноцентричными онтологиями, сформировавшими классическую глобализацию37.
При этом следует различать деколонизацию как исторический феномен, политический процесс обретения независимости бывшими колониями, и колониальность как долговременный результат, в котором мы существуем и по сей день38. Деколониализм направлен на работу с колониальностью с целью преодоления или снятия колониальности.
Доколониальный подход в настоящей статье рассматривается не только как критика колониальной системы знаний (эпистемы) и сложившегося мирового порядка (деглобализация). Деколонизация ставит более широкие проблемы и задачи, вынуждая исследователя пересматривать свою собственную позицию как ученого, гражданина, обывателя, предлагая альтернативные способы концептуализации и познания мира, причем без существенных ограничений в историческом пространстве. Деколониальность может быть описана как процесс, который денормализует сложившуюся нормативность, проблематизирует устоявшиеся позиции, дестабилизирует структуру, освобождая и развивая эпистемологические основания, которые продолжают подавляться в условиях колониальности (классической глобализации)39.
Отметим, что «деколониальный поворот» в социальных науках в силу ряда причин пока не слишком затронул политическую науку, но уже довольно сильно повлиял на производство знания в смежной социологии, этнографии, антропологии, истории, географии и т.д.40
Острые дебаты вокруг осознания евроцентричности и искусственного насаждения западной системы представлений о мире начались уже в 80-х гг. прошлого века41. При этом сразу возникли проблемы оценки доминирующей системы знаний, ее происхождения, возможности ее смены или замены. На переднем крае этих дебатов оказалась социология42, часть представителей которой призывали признать за «незападными» странами (вариант — странами глобального Юга) право создания своих собственных объяснительных моделей без ссылок на западные образцы. Другая часть исследователей старались сохранить в неприкосновенности основания современного знания, достижения мыслителей и классиков конца XX — начала XX вв.43
Важно отметить, что возникновение научного интереса к деко-лониальным исследованиям возникает в 90-е гг. прошлого века во многом усилиями ученых из Латинской и Южной Америки, работающих в американских и европейских университетах и исследовательских центрах44.
При этом деколониальные идеи изначально были шире только научных областей знания и научных публикаций, включая в себя публицистику, политические высказывания и политические действия.
Упрощенно говоря, в основе этого подхода лежит прежде всего реакция на колониальное доминирование, осознаваемое представителями образованного интеллектуального меньшинства бывших колоний или теми, кто считает себя такими представителями. Начиная с Франца Фанона, идеи которого не теряют популярность45, в центре рассмотрения деколониальных теорий становится маргинализированные группы людей, чья жизнь, опыт, идеи и понимание мира имеют меньшее значение или вообще не имеют значение (Фанон пишет про таких людей, как о живущих в «зоне небытия»)46.
По мнению деколониальных мыслителей именно этот невидимый мир необходимо сделать видимым, отбросив те идеи, которые мешают и заслоняют собой часть мира. Этими мешающими увидеть настоящий мир идеями признаются западноцентричные модели знания и объяснения мира47.
С этой точки зрения, политическую науку неминуемо ожидает то, что уже происходит с социологией, то есть пересмотр всех основ политического знания.
Однако, такой процесс (несомненно, имеющий под собой объективные и даже этические основания) не следует упрощать и доводить до отбрасывания всего того, что выработано в рамках гегемонистского мышления. Вызов деколониализма гораздо сложнее, так как в рамках деколониального подхода не существует единого рецепта восстановления справедливости в сфере производства знаний и доступа к ним.
Деколониальная теория, однозначно и резко осуждая «эписте- 118
мицид»48, то есть установление иерархии и последующее устранение эпистемических систем, которые не соответствуют западной современности, предлагает довольно много совершенно разнородных и разнообразных инструментов деколонизации знаний. Это намного усложняет положение политической науки.
К тому же, поскольку эпистемическое насилие всегда связано с другими формами насилия, будь то экономическое, социальное или экологическое, научная деятельность в рамках деколониального подхода чаще всего связана с общественной активностью — ученого, политика, обычного человека.
Таким образом, деколониализм как методологический подход сочетает в себе постколониальную критику нынешнего мирового порядка, центром которой являются выделение доминирующей эпистемы и подавляемые эпистемы, и признание необходимости децентрализации и плюрализации знаний, включая признание возможности и необходимости концептуализации и познания мира разными способами.
Как можно видеть, в такой формулировке деколониальное знание является вызовом для всех общественных наук, сформированных в современном смысле слова в последние 300 лет.
Для политической науки было бы крайне важным услышать доводы и аргументы сторонников деколонизации знания, не сводя их к претензиям на новую гегемонию (хотя данный мотив, безусловно, присутствует в деколониальных исследованиях).
Представляется, что рассмотрение критического потенциала деколонизации знания позволяет лучше понять основы нынешней версии «Запада», «современности», «политического устройства» и т.д., а также поставить вопрос о взаимодействиях различных (даже противоречащих друг другу) эпистемических образований в условиях плюриверсальности.
Надо отметить, что подобные идеи возникали и обосновывались в европейской науке и без «деколониального» влияния. Например, в книгах социолога Бруно Латура, начиная с 1990-х гг. обосновываются близкие идеи о том, что блестящие европейские основания наук на самом деле выглядят совсем не так при непредвзятом анализе, что за этим блеском скрываются доминирование и подавление, дисциплина и санкции за их нарушение49.
В целом, при внимательном изучении в основных идеях деколонизации знания можно усмотреть некоторые полезные и позитивные черты, позволяющие современной политической науке (особенно российской) развиваться дальше.
Например, утверждение, что гегемонистские эпистемологии создают условия для эпистемицидов, какими бы аргументами они не оперировали, вполне могло бы послужить основанием для защиты существующих эпистем, как европейских, так и неевропейских, а, смотря шире, можно говорить и о создании своеобразной «экологии знания»50.
Стоит также внимательно присмотреться к одной из главных задач, декларируемых деколониальной критикой, — сделать видимой структурирующую силу высказывания, обнаружив то, что ясно или скрыто отвергается51. Очевидно, что подобные задачи нечасто ставились перед политической наукой, описывающей прежде всего видимую, осязаемую систему властных отношений, и чаще всего пасующей перед невидимыми и неосязаемыми властными иерархиями и сетями.
Не менее важным представляется идея о том, что наш связанный в целом мир разделен на множество разнородных элементов, причем разрывы между ними являются необходимым элементом существования связанного разнообразного мира. Западный подход, настаивающий на универсальности, в этом смысле противостоит множественности возможных состояний, в которых существуют иные способы понимания мира и позиционирования себя в нем52. Деколониальный подход предлагает овладеть своеобразным «искусством скольжения по пространствам и традициям», противостоящим завоеваниям и поглощениям.
Все эти подходы, конечно, поднимают очень большие вопросы и задачи, которые политической науке еще предстоит решить. Но постановка их в таком виде не менее ценна.
Деколониализм, таким образом, в отличие от деглобализации, проблематизирующей в основном период становления и развития современной модели глобализации, можно рассматривать как более широкий и глубокий вызов политической науке, в котором под вопросом оказываются все классические и современные взгляды на политической устройство общества, политическую власть и принципы властного распределения ценностей в обществе.
Ответить на этот вызов без существенных изменений, потерь и приобретений, политической науке вряд ли удастся.
Демистификация. «Очищение» политической науки?
Последний раздел наших размышлений мы начнем с обоснования того факта, что растущая поляризация многих обществ, как западных, так и незападных, а также противоречия и конфликты между обществами, во многом связаны с тем, что политические акторы, а также люди, не вовлеченные в активную политическую жизнь, основывают свои убеждения на соображениях, часто далеких от объективной реальности.
Это, конечно, далеко не новая проблема. Именно об этом писал когда-то Платон в своем мифе о пещере, в которой живут люди, не видящие реального мира и вынужденные выносить суждения только на основе проекций, доступных их органам чувств53.
По мнению древнегреческого философа большинство людей так никогда в жизни и не могут увидеть мир таким, каким он есть, чему 120
виной особая форма устройства этого мира.
Идея о том, что мы не можем видеть и понимать настоящий мир, с разной степенью обоснованности и аргументации повторялась у многих мыслителей. Для Карла Маркса выход в реальный мир блокировался идеологией, выраставшей в рамках капиталистической системы, которая порождала господствующие взгляды и идеи, уничтожая или выталкивая на периферию угрожающие ей интерпретации реальности54.
Для одного из родоначальников психоанализа, Э. Фромма, решение данной проблемы лежало в сфере психологии: в своей работе, которая носит весьма характерное название «Из плена иллюзий», Фромм предположил, что в нашем сознании имеются социально обусловленные фильтры, которые не дают возможность воспринять и понять целый ряд явлений внешнего мира (язык, логика, социальные табу и другие)55.
Нельзя не упомянуть идеи русского философа Льва Шестова, размышлявшего о возможностях церковной (католической) иерархии присваивать право на объяснение и интерпретацию многообразия окружающего мира. В своей книге “Potestas clavium” («Власть ключей») Шестов философским языком аргументировал идею о том, что сознание людей искажено в результате идейного доминирования56.
Известная идея немецкого социолога Макса Вебера о том, что наука должна этот мир «расколдовывать», демистифицировать, как нельзя лучше характеризует позитивистский модернистский проект взаимоотношений науки и общества.
Однако, как показала вся история XX в., «расколдовать» и демистифицировать действительность у социальных наук получалось не всегда.
Более того, современное научное знание предполагает такую структуру социального мира, в котором происходит конкуренция концепций, объясняющих окружающую реальности и, что особенно важно, навязывающих свою интерпретацию другим людям. В ходе этой конкуренции одни из концепций становятся доминирующими, другие оттесняются на периферию.
Политическая наука, имея дело с весьма сложной частью реальности, неминуемо дисциплинируется, находясь рядом с политической властью, подстраиваясь и отстраиваясь от нее.
В результате, современная политическая наука обросла значительным багажом знаний, идей и концепций, которые, выражаясь метафорически, более близки мифологическим знаниям, чем научным.
Британский философ Марк Бевир в своей недавней книге «История политической науки» пишет о том, что «политологи часто думают, что они, хотя и медленно, но продвигают эмпирическую науку. Напротив, я утверждаю, что они обычно полагаются на случайные и сомнительные теоретические предположения. Политологи часто думают, что они дают нам знания о внешнем мире. Напротив, я под- черкну, что их идеи помогают создавать мир»57. (Тут нельзя, конечно, не вспомнить знаменитое марксовское «Философы лишь различным образом объясняли мир. Но дело заключается в том, чтобы изменить его»58).
Бевир, таким образом, предпринимает небольшой, но важный первый шаг к тому, чтобы заявить о том, что политическая наука требует гораздо большего внимания к себе со стороны общества, политиков, граждан, что это не просто наука о политике — это социальнозначимый институт, во многом формирующий наши знания о политике.
У Бевира нет рецепта, что с этим делать. Его амбиции исследователя ограничиваются предложением исследовательской методологии, с помощью которой можно вскрыть конкретный изъян политической науки, рожденной в эпоху модернизма, который побуждает политологов принимать формализованные представления о мире59.
Исследовательская повестка Бевира связана с историзмом, то есть с подходом, основанным на рассмотрении исторических условий, в которых зарождалась и развивалась политическая наука, в определенной деконструкции этих условий для выявления «искаженных» и «недействительных» политических знаний. Это уже довольно серьезный вызов политической науке.
Отправляясь в это предприятие, Бевир делает несколько важных посылок. Во-первых, он утверждает, что ученые, находящиеся внутри политической науки, могут изучать историю своей науки, но они делают это обычно не выходя за рамки дисциплинарной истории, создавая, как пишет Бевир, «истории, написанные политологами для политологов». Очевидно, продолжает Бевир, что эти внутренние истории глубоко ошибочны.
Во-вторых, Бевир отмечает, что современная дисциплина политология возникла сравнительно недавно, а точнее — в начале XX в. века в США (по крайней мере, так пишут американские политологи). Однако стоит подчеркнуть, что история политической науки, как и вся интеллектуальная история, представляет собой историю транснационального обмена, в ходе которого идеи присваиваются и трансформируются
И, наконец, в-третьих (и на этом мы оставим пока интереснейший труд Марка Бевира), Бевир утверждает, что политическая наука не является естественной дисциплиной, исследующей четко выраженную эмпирическую область, а, являясь конструкцией, составленной из формальных объяснений, — не столько последовательное интеллектуальное предприятие, возникшее в результате одного великого эпистемического сдвига, сколько случайное соединение нескольких слабо связанных между собой интеллектуальных мод.
Подчеркивание формальной конструкции политической науки, данное Бевиром, однако, пока ничего нам не говорит о содержании научного знания, о том, дает ли оно нам точное представление об объективной реальности. Но, по крайней мере, вопрос поставлен. Способна ли политическая наука в ее нынешнем состоянии «расколдовать» политический мир?
Представляется, что этот вызов, названный нами демистификацией, политическая наука только начинает осознавать.
Дело осложняется тем, что, находясь в поле властной иерархии и завися от нее, политической науке не удается избежать серьезных напряжений между научной истиной и лояльностью.
В своем недавней книге с характерным названием «Свет, который погас» Иван Крастев и Стивен Холмс, говоря об американском общества и политике президента Дональда Трампа, подчеркивают, что «готовность повторять фактическую неправду является проверкой на лояльность. Это представляет собой экзистенциальное решение сжечь все мосты в мир чрезмерно образованной элиты, которая все еще думает, что точность важнее, чем лояльность»60.
Кажется, что сегодня даже «чрезмерно образованная элита» (включая политологов) также сжигает эти мосты, оценивая информацию не на основании соответствия общим стандартам доказательности или соответствия общему пониманию мира, а на основании того, поддерживает ли она ценности и цели группы (нации) и соответствует ли она групповым интересам. Согласно этой «групповой эпистемологии», истина противопоставляется лояльности к своей группе.
Способна ли современная политическая наука противостоять такой эпистемологии? Способна ли политическая наука создавать и развивать механизмы такого противостояния? Возможна ли демистификация политической науки средствами самой политической науки? Возможно ли «очищение» политической науки от комплекса доминирующих идей и концепций, выработанных для (как писал когда-то Освальд Шпенглер) поддержания властвования одного потока существования над другим?
Круг подобных вопросов широк и, безусловно, может быть расширен и дальше. Очевидно, что политическая наука вынуждена будет искать ответы на этот вызов, доказывая себе и обществу, что она является наукой и в большей степени осуществляет поиск новых знаний о реальности, а не создает ее под влиянием интересов и целей доминирующих властных иерархий и конструируемых государственной политикой памяти исторических мифов.
* * *
Рассмотренные нами в рамках данной статьи вызовы политической науке наверняка не носят исчерпывающего характера. Историческое развитие наверняка преподнесет нам самые неожиданные и самые маловероятные с сегодняшней точки зрения события и повороты. Однако мы, по крайне мере, постарались оценить те возможные проблемы, с которыми политическая наука неминуемо столкнется и уже начинает сталкиваться.
Среди рассмотренных в статье вызовов самым очевидным представляется деглобализация, которая заставляет политическую науку пересматривать существенные научные достижения и результаты, основанные на явлениях и событиях последних 40 лет, в течение которых глобальные процессы казались всеобъемлющими и долговременными. Накопленный багаж проблем и провалов, связанный с либеральной моделью глобализации, делает эту задачу необходимой, но и весьма масштабной.
Второй важный вызов, выделенный в статье, на наш взгляд существенно шире и сложнее: он касается процессов деколонизации знания, которая ставит под сомнение (справедливо или не очень) гигантский объем знаний человечества, выработанного в период становления и развития колониальной системы. Политическая наука пока не восприняла этот вызов во всей его сложности, но этот выбор придется сделать в ближайшее время.
Наконец, перед политической наукой встает вызов, который мы обозначили как «демистификация», то есть радикализация вечного противостояния научной истины и «удобного знания». «Групповые эпистемологии» в современном обществе часто становятся важнее научного знания, и в политической науке есть немало примеров такого положения дел.
Все указанные вызовы, имея свои собственные основания и пути развития. Тем не менее, они действуют одновременно, в общем историческом пространстве, и, по всей видимости, усиливая друг друга.
Найдутся ли силы внутри политической науки, чтобы заметить и ответить на обозначенные вызовы? Ответа на этот вопрос в статье нет. Надеемся, что этот ответ мы узнаем в самое ближайшее время.
Список литературы Политическая наука перед вызовами XXI века: деглобализация, деколонизация, демистификация
- BevirM. A History of Political Science. Cambridge, 2022.
- Кун Т. Структура научных революций. Москва, 2009; ЛакатосИ. Избранные произведения по философии и методологии науки. Москва, 2008.
- ФлекЛ. Возникновение и развитие научного факта: Введение в теорию стиля мышления и мыслительного коллектива. Москва, 1999.
- Jorgensen Р. et al. Evolution of the Polycrisis: Anthropocene Traps that Challenge Global Sustainability // Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. 2023. Vol. 379. No. 1893.
- ТойнбиА.Дж. Постижение истории: Сборник. Москва, 1991.
- ГрачевМ. Н. Политическая наука как проект ЮНЕСКО: К 75-летию международной конференции «Методы в политической науке» // Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. Международные отношения. 2023. № 3. С. 12-27; HuntE. The Past, Present, and Future States of Political Theory // Society. 2022. Vol. 59. P. 119-128; Flinders M. The Future of Political Science: The Politics and Management of the Academic Expectations Gap: Evidence from the UK // European Political Science. 2018. Vol. 17. P. 587-600; The Future of Political Science: 100 Perspectives. New York, 2009.
- World Ranking of Top Law & Political Scientists in 2022 (1st Edition). URL: https://research.com/news-events/world-ranking-of-top-law-political-scientists-2022
- RicciD. The Tragedy of Political Science: Politics, Scholarship, and Democracy. New Haven (CT), 1984.
- BeckU. Cosmopolitan Vision. Cambridge, 2006.
- Agw uF. Foreign Policy in the Age of Globalization, Populism and Nationalism: A New Geopolitical Landscape. Singapore, 2021. P. 19.
- Understanding Globalization, Global Gaps, and Power Shifts in the 21st Century. Singapore, 2022.
- СергеееВ.М., КузъминА. С., НечаееВ. Д., АлексеенкоеаЕ. С., Казанцев А. А., Дождиков А. В., Евстифеев Р. В., Усманов С. М., Черньшов С. В., Федорова И. М., ХомутоваО. Ю., Виноградова С. А. «Хора» московских «ворот» и сценарии ее развития // Полис. Политические исследования. 2007. № 2. С. 44-62; Казанцев А. А., СергеееВ.М. Кризис «американоцентричной» глобализации: причины, тенденции, сценарии развития // Вестник МГИМО-Университета. 2020. Т. 13. № 2. С. 40-69.
- Alexander Т. Unravelling Global Apartheid: An Overview of World Politics. Cambridge, 1996.
- HardtM., Negri A. Empire. Cambridge (MA), 2000; Debating Empire. London; New York, 2003.
- Евстифеев P. В. Государство и общество в XXI веке: метафоры глобализации и глобализация метафор // Социум и власть. 2010. № 1 (25). С. 4-9.
- Haass R. The Age of Nonpolarity: What Will Follow U. S. Dominance // Foreign Affairs. 2008. Vol. 87. No. 3. P. 44-56; HaassR. AWorld in Disarray: American Foreign Policy and the Crisis of the Old Order. New York, 2017.
- Globalization and Transculturality from Antiquity to the Pre-Modern World. London; New York, 2022.
- BuhariD. The Myth of Deglobalization: Definitional and Methodological Issues // Globalization: Past, Present, Future. Oakland (CA), 2023. P. 74-89.
- PieterseJ.N. Global Culture, 1990, 2020 // Theory, Culture and Society. 2020. Vol. 37. No. 7-8. P. 235.
- KimH.-M., Li P., Lee Y. R. Observations of Deglobalization against Globalization and Impacts on Global Business // International Trade, Politics and Development. 2020. Vol. 4. No. 2. P. 83-84.
- Arase D. China's Rise, Deglobalization and the Future of Indo-Pacific Governance //AsiaGlobal Papers. 2020. Vol. 2. P. 1-47.
- KornprobstM., PaulT. V. Globalization, Deglobalization and the Liberal International Order//International Affairs. 2021. Vol. 97. No. 5. P. 1305-1316.
- NovyA. The Political Trilemma of Contemporary Social-Ecological Transformation — Lessons from Karl Polanyi's The Great Transformation // Globalizations. 2022. Vol. 19. No. 1. P. 59-80; Hammes Т. X. Deglobalization and International Security. Amherst (NY), 2019; OlivieL, GraciaM. Is This the End of Globalization (As We Know It) // Globalizations. 2020. Vol. 17. No. 6. P. 990-1007; Karunaratne N. D. The Globalization-Deglobalization Policy Conundrum // Modern Economy. Vol. 3. No. 4. P. 373-383.
- Bello W.F. Deglobalization: Ideas for a New World Economy. London, 2002.
- BuhariD. The Myth of Deglobalization: Definitional and Methodological Issues // Globalization: Past, Present, Future. Oakland (CA), 2023. P. 74-89.
- Paul Т. V. Globalization, Deglobalization and Reglobalization: Adapting Liberal International Order // International Affairs. 2021. Vol. 97. No. 5. P. 1599-1620.
- BenedikterR. What Is Re-Globalization? //New Global Studies. 2021. Vol. 15. No. 1. P. 73-84.
- Re-Globalization: New Frontiers of Political, Economic, and Social Globalization. Abingdone; Oxon (NY), 2022.
- Ни A. The Allure of the Civilizational State // The National Interest. 2022. May 5.
- LinklaterA. The Idea of Civilization and the Making of the Global Order. Bristol, 2021.
- ФеврЛ. Цивилизация: эволюция слова и группы идей // ФеврЛ. Бои за историю. Москва, 1991. С. 251-255.
- ВелижевМ. Б. Цивилизация и средний класс // Понятия о России: К исторической семантике имперского периода. Т. 1. Москва, 2012. С. 250-292.
- Kumar К. The Return of Civilization — and of Arnold Toynbee? // Comparative Studies in Society and History. 2014. Vol. 56. No. 4. P. 815-843.
- Спиридонова В. И. «Государство-цивилизация» как новая формула существования в XXI веке // Общественные науки и современность. 2022. №3. С. 116-127.
- Zhang W. The China Wave: Rise of a Civilizational State. Shanghai, 2012.
- Спиридонова В. И. «Цивилизационное государство» как вызов однополярной глобализации // Век глобализации. 2022. № 1 (41). С. 29-41; Щербакова А. Д. Специфика регионального лидерства Бразилии в начале XXI в. // Вестник РГГУ. Серия: История. Политология. Международные отношения. 2022. № 4. С. 49-59; AcharyaA. The Myth of the "Civilization State": Rising Powers and the Cultural Challenge to World Order // Ethics & International Affairs. 2020. Vol. 34. No. 2. P. 139-156; CokerC. The Rise of the Civilizational State. Cambridge (UK); Medford (MA), 2019; Therborn G. States, Nations, and Civilizations // Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences. 2021. Vol. 14. P. 225-242; GuangX. China as a "Civilization-State": A Historical and Comparative Interpretation // Procedia— Social and Behavioral Sciences. 2014. Vol. 140. P. 43-47; Володин А. Г. Индия как «государство-цивилизация» // Общественные науки и современность. 2022. № 6. С. 106-124.
- BeheraN. С. Globalization, Deglobalization and Knowledge Production // International Affairs. 2021. Vol. 97. No. 5. P. 1580.
- ТлостановаМ. В. Постколониальный удел и деколониальный выбор: постсоциалистическая медиация // Новое литературное обозрение. 2020. № 1 (161). С. 66-84; Захаров А. А. О колониальных предпосылках федерализма в Нигерии // Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. Международные отношения. 2023. № 3. С. 80-94.
- Gallien С. A Decolonial Turn in the Humanities // Alif: Journal of Comparative Poetics. 2020. Vol. 40. P. 28.
- Postcolonial Turn: Re-Imagining Anthropology and Africa. Bamenda; Leiden, 2011; Radcliff'e S. A. Decolonizing Geography: An Introduction. Cambridge, 2022; WoodD. A. Epistemic Decolonization: A Critical Investigation into the Anticolonial Politics of Knowledge. Cham, 2020.
- HiraS. Decolonizing the Mind: A Guide to Decolonial Theory and Practice. Hague, 2023.
- Meghji A. Decolonizing Sociology: An Introduction. New York, 2021.
- КисленкоИ. Ю. О колониальной эпистеме и деколониальной социологии (к дискуссии о канонизации У.Э.Б. Дюбуа) // Социологические исследования. 2022. № 7. С. 4.
- Gallien С. A Decolonial Turn in the Humanities // Alif: Journal of Comparative Poetics. 2020. Vol. 40. P. 29.
- ShatzA. The World Has Caught Up to Frantz Fanon // The New York Times. 2024. Feb. 2.
- Fanon F. Black Skin, White Masks. New York, 1967.
- Sousa Santos В., de. Beyond Abyssal Thinking: From Global Lines to Ecologies of Knowledges // Review — Fernand Braudel Center for the Study of Economies, Historical Systems, and Civilizations. 2007. Vol. 30. No. 1. P. 45-89.
- Sousa Santos В., de. Epistemologies of the South: Justice Against Epis-temicide. Boulder (CO), 2014.
- ЛатурБ. Нового Времени не было: Эссе по симметричной антропологии. Санкт-Петербург, 2006; ЛатурБ. Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию. Москва, 2014.
- Sousa Santos В., de. Beyond Abyssal Thinking: From Global Lines to Ecologies of Knowledges // Review — Fernand Braudel Center for the Study of Economies, Historical Systems, and Civilizations. 2007. Vol. 30. No. 1. P. 45.
- Mignolo W. D. Local Histories/Global Designs: Coloniality, Subaltern Knowledges, and Border Thinking. Princeton (NJ), 2012.
- TlostanovaM. V, Mignolo W. Learning to Unlearn: Decolonial Reflections from Eurasia and the Americas. Columbus (OH), 2012.
- Платон. Государство 11Платон. Собр. соч. В 4 т. Т. 3. Москва, 1994. С.295-298.
- Маркс К. Энгельс Ф. К критике политической экономии И Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 13. С. 1-167.
- Фромм Э. Из плена иллюзий // Фромм Э. Душа человека. Москва, 1992. С.299-374.
- Шестов Л. И. Potestas clavium (Власть ключей). Москва, 2007.
- BevirM. A History of Political Science. Cambridge, 2022. P. 1.
- Маркс К. Энгельс Ф. Тезисы о Фейербахе И Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 3. С. 4.
- Everdell W. R. The First Moderns: Profiles in the Origins of Twentieth-Century Thought. Chicago (IL), 1997; HeyckH. The Age of System: Understanding the Development of Modern Social Science. Baltimore (MD), 2015; Modernist Impulses in the Human Sciences, 1870-1930. Baltimore (MD), 1994.
- KrastevL, HolmesS. The Light That Failed: AReckoning. London, 2019. P. 177.