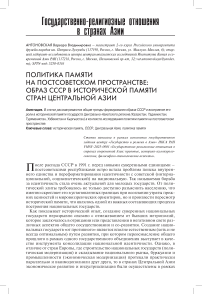Политика памяти на постсоветском пространстве: образ СССР в исторической памяти стран Центральной Азии
Автор: Антоновская В.В.
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Государственно-религиозные отношения в странах Азии
Статья в выпуске: 3 т.33, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются общие тренды формирования образа СССР и восприятие его роли в исторической памяти государств Центрально-Азиатского региона (Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Кыргызстан) в контексте исследования политики памяти на постсоветском пространстве.
Историческая память, ссср, центральная азия, политика памяти
Короткий адрес: https://sciup.org/170210368
IDR: 170210368 | DOI: 10.24412/2071-5358-2025-3-272-277
Текст научной статьи Политика памяти на постсоветском пространстве: образ СССР в исторической памяти стран Центральной Азии
Статья написана в рамках исполнения государственного задания центру «Государство и религия в Азии» ИКСА РАН FMSF-2025-0001 «Государственно-религиозные отношения в странах современной Азии: правовые, историко-культурологические, философско-теологические аспекты».
П осле распада СССР в 1991 г. перед новыми суверенными единицами – постсоветскими республиками остро встала проблема поиска внутреннего единства и переформатирования идентичности с советской (интернациональной, социалистической) на национальную. Так называемая борьба за идентичность стала очень актуальной для молодых государств. От политической элиты требовалось не только доступно разъяснить населению, что именно скрепляет его в установленных границах при осознании утраты прежних ценностей и мировоззренческих ориентиров, но и произвести пересмотр исторической памяти, что являлось одной из важных составляющих процесса построения национальных государств.
Как показывает исторический опыт, создание суверенных национальных государств неразрывно связано с отмежеванием от бывших метрополий, которое заключалось в отрицании или представлении в негативном свете различных аспектов общего сосуществования и со-развития. Создание национальных государств «от противного» является вполне естественным (хоть и не всегда оптимальным) путем развития, при котором переосмысление общего прошлого в рамках одного государственного объединения выступает в качестве инструмента консолидации национальной идентичности. Однако, в отличие от стран Европы, где строительство национальных государств (политическая модернизация) и складывание национального рынка, буржуазии и промышленности (экономическая модернизация) протекали практически параллельно и взаимодополняли друг друга, то в странах Центральной Азии экономическое развитие и индустриализация были осуществлены в рамках
Советского Союза, тогда как политическая модернизация стала возможна лишь после его распада. В этой связи возникает парадокс – логическое развитие политической модернизации (национальное государство) достигается государствами Центральной Азии только через отрицание (полное или частичное) достижений экономической модернизации, осуществленной в составе СССР. Это главная дилемма, перед которой были поставлены элиты постсоветских центральноазиатских республик, и к ее разрешению они подходили разными способами. Это во многих случаях и определяет специфику процесса конструирования политики памяти в регионе.
Поиск собственной национальной идентичности также сопряжен с обращением к историческим нарративам, этнополитическим мифам, конструируемой с их помощью коллективной исторической памяти. В частности, важную роль в процессе формирования национальной идентичности также играет процесс рефлексии, осуществляемый национальной гуманитарной интеллигенцией при кураторстве политических властей, при котором переосмысливаются и подвергаются переоценке события недавнего прошлого.
Для постсоветских центральноазиатских республик недавним прошлым, как нами уже было упомянуто, являлся период сосуществования в СССР. В данном исследовании мы предлагаем рассмотреть общие тренды формирования образа СССР и восприятие его роли в исторической памяти государств Центрально-Аазиатского региона1, а именно Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Кыргызстана.
Историческую политику, рассматриваемую нами в качестве частного случая политики памяти, мы предлагаем понимать как деятельность государственных и иных акторов, направленную на трансляцию и закрепление в коллективном восприятии представлений о прошлом, формирование вокруг них культурной инфраструктуры, поддержание и конструирование выгодных государственной власти нарративов посредством образовательной политики и путем законодательного регулирования [Малинова 2018; Миллер 2012]. Также отметим, что политика памяти работает не с самим прошлым и историческими событиями, а скорее с их определенной реконструкцией и социально-культурным восприятием, которое укоренилось (или нуждается в укоренении) в коллективной памяти. Под коллективной памятью мы предлагаем понимать социально разделяемое культурное знание о прошлом, которое отличается своей избирательностью и неполнотой [Малинова 2018]. Продвигая и поддерживая определенное восприятие прошлого в коллективной памяти, политические акторы стремятся не просто утвердить определенную интерпретацию прошлого, но использовать ее для реализации конкретной политической программы. В случае с государственной властью речь идет о собственной легитимации, а также обосновании проводимой политики и принимаемых решений, укреплении национального самосознания и внутренней солидарности отдельных групп населения и их солидаризации с государственной политикой. Негосударственные акторы нередко преследуют обратную политику, направленную на делегитимацию государственного
1 Отметим, что сегодня историческую Среднюю Азию (пять постсоветских республик) как на Западе, в англоязычной традиции, так и в самих постсоветских государствах именуют Центральной Азией. На русском языке под Центральной Азией обычно понимается аридный, климатически суровый макрорегион значительно севернее и восточнее: юг Сибири, Монголия, Таримская котловина, Тибет, прежде всего тибето-монгольский мир.
строя или отдельных аспектов государственной политики в целях оказания на нее влияния.
Конструирование политики памяти – сложный, нелинейный и многофакторный процесс. Тем не менее исследователи политики памяти выделяют несколько общих черт, которые идентифицируются в стратегиях политики памяти государств Центральной Азии. Во-первых, это стремление вслед за советской традицией выстроить демонстрацию континуальности истории. Следует отметить, что нациестроительство в Средней Азии происходило между Гражданской и Великой Отечественной войнами, менее 100 лет назад1, и оно до известной степени определялось не местными элитами, а потребностями советского правительства. Поэтому для государств Средней Азии идейно гораздо важнее средневековое наследие этих земель, кем бы ни считали себя в этнокультурном отношении его создатели: так, например, элиты региона стремятся провести происхождение народа от арийцев, гуннов Аттилы или времен существования Золотой Орды. Во-вторых, это расширение (иногда искусственное) границ собственной истории, которое зиждется на актуализируемых нарративах о древности и автохтонности народа, его уникальной культуре, великих предках и могущественных врагах, в борьбе с которыми формировалась нация [Франц 2020]. В-третьих, это «антиколониальный»2 дискурс и инкорпорированная в него виктимизация национального прошлого в составе СССР [Романова, Федорова 2023]. При этом в каждой отдельной стране ЦА можно наблюдать разную степень и разные фокусы виктимизации.
Обращение к национальному прошлому в составе СССР преимущественно сопровождается критическими оценками данного периода, переосмыслением советского наследия и коммунистической идеологии [Грибовод, Ковба, Моисеенко 2019]. В угоду политической конъюнктуре пересматриваются исторические смыслы, что находит отражение в образовательной и культурной политике, коммеморативных практиках, общественно-политическом дискурсе и т.д. Так, например, общим трендом для постсоветских государств в целом и для центральноазиатских республик в частности является процесс декоммунизации и десоветизации. В Узбекистане, Кыргызстане, Казахстане, Туркменистане и Таджикистане были открыты музейно-мемориальные комплексы жертвам политических репрессий, а также установлены памятники и мемориальные таблички. Например, в Казахстане на месте женского лагеря, в котором отбывали заключение «изменники родины», был открыт мемори- альный комплекс «Алжир», в Ташкенте, Бишкеке и Ашхабаде были открыты памятные места, посвященные жертвам сталинских репрессий1. Акцент на теме репрессий прежде всего обусловлен использованием их в качестве инструмента девальвации достижений сталинской экономической модернизации. В условиях, когда сложно отрицать материальные результаты индустриализации и инфраструктурного развития, осуществлявшихся в период существования СССР, именно репрессии выступают как наиболее ясная линия критики, позволяющая ставить под сомнение позитивное наследие советского периода.
В рамках процесса десоветизации происходило переименование населенных пунктов, улиц, а также демонтаж памятников русским большевикам и их замена на фигуры местных героев и националистических лидеров. Таким образом, происходит смещение коммеморативного внимания с фигур советских руководителей республики на фигуры национальных героев конструируемого пантеона [Галлиев 2016].
Переосмысление роли Советского Союза также происходило в плоскости академического дискурса. Так, после распада СССР на территории бывших союзных республик были созданы структуры, ответственные за исследование и формирование исторической памяти. Это такие организации, как Институт истории государства в Казахстане, Каракалпакский НИИ гуманитарных наук в Узбекистане, Институт истории и культурного наследия Национальной академии наук в Киргизии, Институт истории, археологии и этнографии им. А. Дониша в Таджикистане.
Большое значение в формировании исторической памяти играет образовательная политика. Как показало исследование российских ученых «Освещение общей истории России и народов постсоветских стран в школьных учебниках истории новых независимых государств», общей чертой школьных учебников новых национальных государств Центральной Азии является стремление представить контакты с русскими и Россией как источник бедствий [Освещение общей истории… 2009]. Исследование, проведенное в 2024 г. ИНИОН РАН, также отмечает, что образ СССР не претерпел существенных изменений [Россия в учебниках стран… 2024]. Политика, проводимая СССР (центром) в центральноазиатских республиках, характеризуется в целом как принесшая урон национальной идентичности, способствовавшая усугублению экономического и политического кризиса. Конечно, о тотальной демонизации Советского Союза говорить было бы неверно: авторы школьных учебников и пособий для вузов признают и некоторые положительные инициативы СССР: например, строительство заводов и фабрик, открытие учебных заведений и повышение образованности населения.
Также положительным аспектом, важность которого признается и отмечается в рассматриваемых нами странах, выступает нарратив о героическом участии в Великой Отечественной войне. Участие в войне представляется как общая трагедия, где нет места разделению на республики и центр. При этом отмечается, что центральноазиатские государства внесли свой значимый вклад в победу, снабжая фронт и тыл необходимым сырьем. Несмотря на это, некоторые эксперты, занимающиеся изучением политики памяти региона, отмечают, что в последнее время нарратив о Великой Отечественной войне также претерпевает изменения и воспринимается как «травма» в моло- дежной среде центральноазиатских государств из-за кажущегося умаления вклада республик в общую победу [Романова, Федорова 2023]. Аналогичные заявления можно найти и в учебной литературе стран Центральной Азии, где утверждается, что советская власть насильно забирала народ на войны и насильно приобщала к мировым процессам [Россия в учебниках стран… 2024]. Тем не менее память о ВОВ все еще является консолидирующим элементом, а День Победы является важной мемориальной датой.
Еще одним позитивным аспектом памяти о СССР, который страны Центрально-Азиатского региона аккумулируют как в стратегии национальной политики памяти, так и во внешней политике, является советская идея о «дружбе народов», которая в настоящее время получила новое прочтение в рамках таких международных организаций, как ЕАЭС, ШОС, и Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.
Таким образом, стратегия политики памяти центральноазиатских стран по отношению к своему прошлому в составе Советского Союза и формирование его образа в коллективной исторической памяти основывается на таких технологических приемах, как актуализация одних фактов прошлого и замалчивание других, переписывание учебников по истории, создание новой историографии, переименование топонимов, изменение мемориальных дат и трансформация символического наполнения праздников, а также создание собственных организаций и институтов, занимающихся изучением национальной истории.
По итогам сказанного выше можно сделать следующие выводы.
В целом, память о своем национальном прошлом в составе СССР и образ Советского Союза в странах Центральной Азии являются довольно амбивалентными. С одной стороны, в угоду глорификации национальной истории постсоветские восточные республики формируют антагонистический режим памяти, в основе которого – стремление отмежеваться от бывшей «метрополии» в лице СССР, которое происходит с помощью клиповой репрезентации прошлого. Демонстрируя и закрепляя наиболее резонирующие негативные события периода сосуществования в СССР в коллективной памяти нации, элиты стремятся подчеркнуть на контрасте успехи проводимой ими государственной политики.
С другой стороны, наследие Советского Союза, отраженное в индустриальной базе, в разделяемых знаковых мемориальных датах, дипломатических и экономических связях государств региона, также сохраняет свое значение. К тому же параллельно с постепенным дистанцированием от своего советского прошлого страны Центральной Азии прагматично сохраняют некоторые символы и практики времен СССР, такие как, например, празднование Дня Победы, считая это выгодным для сохранения дружественных отношений с Россией.
Такую стратегию политики памяти в Центральной Азии некоторые исследователи называют «сидением на двух стульях» [Грибовод, Ковба, Моисеенко 2019] – стремлением политических элит соблюсти некий баланс между использованием элементов наследия советского прошлого, принципами государственного суверенитета и национальной идентичности, а также совместить просоветский и антисоветский дискурсы в процессе лавирования между ориентацией на Россию и курсом на сближение с Западом, а также с Турцией.
Для политики Российской Федерации в отношении Средней Азии важно актуализировать общее культурное наследие, главным образом советского периода. Не стоит забывать, что жители этого большого региона более 100
лет проживали в едином государстве с россиянами, многие из них – носители русского языка; жители Средней Азии внесли большой, достойный вклад в формирование советской и современной русской культуры. Не только добрососедство, но и реальное кровное братство связывают нас с народами и культурами Средней Азии.