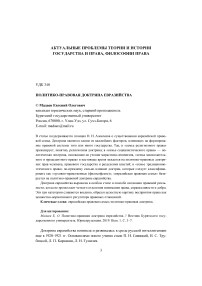Политико-правовая доктрина евразийства
Автор: Мадаев Евгений Олегович
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Юриспруденция @vestnik-bsu-jurisprudence
Рубрика: Актуальные проблемы теории и истории государства и права, философии права
Статья в выпуске: 1, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье поддерживается позиция Н. Н. Алексеева о существовании евразийской правовой семьи. Доктрина является одним из важнейших факторов, влияющих на формирование правовой системы того или иного государства. Так, в «семье религиозного права» превалирует, понятно, религиозная доктрина; в «семье социалистического права» - политическая доктрина, основанная на учении марксизма-ленинизма, «семья законодательного и прецедентного права» в настоящее время зиждется на политико-правовых доктринах прав человека, правового государства и разделения властей; в «семье традиционно-этического права» по-прежнему сильно влияние доктрин, которые следует классифицировать как «духовно-нравственные (философские)», «евразийская правовая семья» базируется на политико-правовой доктрине евразийства. Доктрина евразийства выражена в особом стиле и способе осознания правовой реальности, когда не происходит четкого отделения понимания права, справедливости и добра. Эти три категории сливаются воедино, образуя целостную картину восприятия права как ценностно-нормативного регулятора правовых отношений.
Евразийская правовая семья, политико-правовая доктрина
Короткий адрес: https://sciup.org/148316966
IDR: 148316966 | УДК: 340
Текст научной статьи Политико-правовая доктрина евразийства
Мадаев Е. О. Политико-правовая доктрина евразийства // Вестник Бурятского государственного университета. Юриспруденция. 2019. Вып. 1. С. 3–7.
Доктрина евразийства возникла и развивалась в среде русской интеллигенции еще в 1920–1921 гг. Основателями нового учения стали П. Н. Савицкий, Н. С. Трубецкой, Л. П. Карсавин, Л. Н. Гумилев.
В доктрине евразийства Н. С. Трубецкой выделял следующие элементы:
-
1) критика западной культуры и выработка собственной концепции культуры;
-
2) обоснование идеалов на началах православной веры;
-
3) осмысление геоэтнического положения России и утверждение ее особых путей развития как Евразии;
-
4) учение об идеократическом государстве.
Отвергая западничество и славянофильство, евразийцы позиционировали свое серединное местоположение: «Культура России не есть ни культура европейская, ни одна из азиатских, ни сумма или механическое сочетание из элементов той и других... Ее надо противопоставить культурам Европы и Азии как серединную евразийскую культуру» [5].
В развитие России как государства евразийцы заложили концепцию монголо-фильства:
-
1) господство татар было в русской истории не отрицательным, а положительным фактором. Монголо-татары не только не разрушали форм русской жизни, но и дополняли их, дав России школу администрации, финансовую систему, организацию почты и т. д.;
-
2) татаро-монгольский (туранский) элемент вошел в русский этнос настолько, что считать нас славянами нельзя. «Мы не славяне и не туранцы, а особый этнический тип» [5];
-
3) «Россия — наследница Великих Ханов, продолжательница дела Чингиса и Тимура, объединительница Азии, — писал П. Н. Савицкий, — Россия — часть особого «окраинно-приморского» мира, носительница углубленной культурной традиции. В ней сочетаются одновременно историческая «оседлая» и «степная» стихия» [7, с. 123-130]. «Совершилось чудо превращения монгольской государственной идеи в государственную идею православно-русскую», — писал Н. С. Трубецкой. «В своей сущности русское государство есть основное ядро монархии Чингисхана» [8, с. 131];
-
4) туранское наследство должно определять и современную стратегию, и политику России — выбор целей, союзников и т. д.
С точки зрения Л. Н. Гумилева, этнокультурные взаимоотношения Великой степи и Руси носили комплементарный характер. Л. Н. Гумилев говорил, что истинная дружба народов возможна только при глубоком уважении к достоинству, чести, культуре, языку и истории каждого народа, широком общении между ними. В книге «Черная легенда. Друзья и недруги Великой степи» он опровергал самые разные негативные стереотипы и боролся за восстановление чести и достоинства и русского, и тюркских, и монгольских народов, ратуя за естественное и необходимое братство всех народов [3].
Л. Н. Гумилев в книге «Тысячелетие вокруг Каспия» подчеркивал, что долгое время научная мысль историков Европы была занята железным кольцом моноцентризма. «Евразийский полицентризм предполагает, что таких центров много. Европа — центр мира, но и Палестина — центр мира. Иберия и Китай — то же самое и т. д. Центров много», — отмечал ученый [2, с. 10, 27].
Учение о государстве является одним из важнейших в доктрине евразийства. В его разработке принимали самое активное участие Л. П. Карсавин и Н. Н. Алексеев. Государство этого типа и определяется как идеологическое или, по терминологии евразийцев, идеократическое. В нем «единая культурно-государственная идеология правящего слоя так связана с единством и силою государства, что ее нет без них, а их нет без нее» [4, с. 220].
Во многом под влиянием идей Н. Н. Алексеева сформирована теория о существовании двух основополагающих типов правовых систем: отдифференцированного и неотдифференцированного. В число отдифференцированных систем включают «классические» правовые системы континентального (романогерманского) и англо-американского права. К неотдифференцированным правовым системам относят те правовые системы, развитие права в которых происходит под знаком значительного влияния другой сферы жизни человека и общества. Это дальневосточная правовая семья (право подвержено влиянию со стороны морали), правовая семья обычного права (право развивается под влиянием обычаев), традиционная правовая семья (традиции выступают определяющим фактором формирования права) и евразийская правовая семья (на право оказывает значительное влияние политика) [6, с. 115–125].
С учетом сказанного полагаем возможным выработать следующую дефиницию политической доктрины. Политическая доктрина — это систематизированное учение, целостная концепция, авторитетное научное исследование, совокупность теорий, принципов, заложенных в основу механизма регулирования отношений, возникающих между социальными общностями, классами, нациями, народами, партиями, государствами, гражданами и их объединениями по поводу политической власти, получившее официальное признание посредством воплощения ее положений в программных документах политического характера, позволяющее прогнозировать основные тенденции, влияющие на структурную организацию общества и государства.
Политическая доктрина проявляет себя:
-
1) в регулировании отношений, возникающих между социальными общностями, классами, нациями, народами, партиями, государствами, гражданами и их объединениями по поводу политической власти;
-
2) в официальном признании посредством воплощения ее положений в программных документах политического характера, позволяющем прогнозировать
основные тенденции, влияющие на структурную организацию общества и государства;
-
3) в возможности быть в совокупности с правовой доктриной источником государственного (конституционного) права посредством доктринальных норм.
В теории правового мышления идеи евразийства выражены в особом стиле и способе осознания правовой реальности, когда не происходит четкое отделение понимания права, справедливости и добра. Эти три категории сливаются воедино, образуя целостную картину восприятия права как ценностно-нормативного регулятора правовых отношений [1, с. 102-103].
Таким образом, можно утверждать, что в доктрине евразийства политическая и правовая доктрины неразрывно связаны между собой постольку, поскольку генетически и органически связаны определяющие их государство и право, являющиеся парными социальными явлениями, не существующими друг без друга. Поэтому обоснованно утверждать о наличии феномена «политико-правовая доктрина», включающего в себя черты как того, так и другого вида доктрин. В качестве примеров можно привести доктрину социалистического государства, доктрину правового государства, доктрину разделения властей и другие. Политикоправовые доктрины отличаются от чисто политических тем, что ни одна из них не сможет быть реализована без правового обеспечения, каждая из них предусматривает необходимость создания нескольких самостоятельных правовых институтов, предполагает осуществление разного рода юридических деятельностей. Такие доктрины одновременно воздействуют и на политическую, и на правовую систему того или иного государственно-организованного общества.
Не все политико-юридические теории преобразуются в доктрину, а только такие, которые: 1) научно обоснованы, опираются на достаточно солидный опыт зарубежных и отечественных научных исследований; 2) авторитетны, общепри-знаны, востребованы политико-правовой теорией, а главное — практикой; 3) имеют научно-прикладной и практический характер, их реализация фактически осуществляется в той или иной степени в политико-правовой практике; 4) имеют регулятивные возможности, так как, во-первых, их положения закрепляются в конституционных актах и законодательстве, во-вторых, на их постулаты ориентируется в своих правовых позициях органы конституционной юстиции, правоприменительная практика вообще и правосудие в частности. Кроме того, у политико-правовых доктрин наличествуют и дополнительные (факультативные) признаки доктрины: формальная определенность, прогностичность, масштабность, декларативность, самодостаточность.
Таким образом, в контексте нашей темы представляется правильным утверждать: современные компаративисты уделяют незаслуженно мало внимания доктрине именно как системному критерию. В лучшем случае она вскользь упоми-6
нается среди источников права, да и то чаще в историческом аспекте. Это неверно, так как разного вида доктрины, «работая» во взаимодействии с правовой доктриной, по большому счету являются одним из важнейших факторов, влияющих на формирование правовой системы того или иного государства. Так, в «семье религиозного права» превалирует, понятно, религиозная доктрина; в «семье социалистического права» — политическая доктрина, основанная на учении марксизма-ленинизма, «семья законодательного и прецедентного права» в настоящее время зиждется на политико-правовых доктринах прав человека, правового государства и разделения властей; в «семье традиционно-этического права» по-прежнему сильно влияние доктрин, которые следует классифицировать как «духовно-нравственные (философские)»; «евразийская правовая семья» базируется на политико-правовой доктрине евразийства.
Список литературы Политико-правовая доктрина евразийства
- Баранов В. М. Овчинников А. И., Овчинникова С. П. Евразийское правовое мышление Н. Н. Алексеева. Ростов н/Д.: Изд-во СКНЦ ВШ, 2002. 264 с.
- Гумилев Л. Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации. М., 1993.
- Дорошенко Н. М. Методологические подходы Л. Н. Гумилева и евразийцев [Электронный ресурс]. URL: www.google.ru.
- Карсавин Л. П. Основы политики // Евразийский временник. Париж, 1927. Т. 5.
- Манифест евразийства. София, 1927.
- Оборотов Ю. Н. Традиции и новации в правовом развитии: проблемы теории. Одесса: Юридическая литература, 2006.
- Савицкий П. Н. На путях: утверждение евразийцев. М.: Геликон, 1922.
- Хоружий С. С. О старом и новом. СПб.: Алетейя, 2000. 477 с.