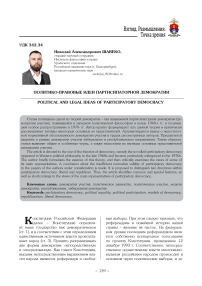Политико-правовые идеи партисипаторной демократии
Автор: Шавеко Н.А.
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Взгляд. Размышления. Точка зрения
Статья в выпуске: 2 (59), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена одной из теорий демократии – так называемой партисипаторной демократии (демократии участия), появившейся в западной политической философии в конце 1960-х гг. и получившей особое распространение в 1970гг. Автор кратко формулирует суть данной теории и критически рассматривает взгляды некоторых основных ее представителей. Аргументируется вывод о недостаточной нормативной обоснованности демократии участия в трудах рассмотренных авторов. Предлагается выделять в рамках демократии участия либеральное и республиканское направления. Таким образом, статья выявляет общие и особенные черты, а также недостатки во взглядах основных представителей демократии участия.
Демократия участия, политическое равенство, политическое участие, модели демократии, республиканизм, либеральная демократия
Короткий адрес: https://sciup.org/140310212
IDR: 140310212 | УДК: 342.34
Текст научной статьи Политико-правовые идеи партисипаторной демократии
К онституция Российской Федерации (далее – Конституция) определяет наше государство как демократическое (ст. 1), и в соответствии с этим определением единственным источником власти провозглашает народ (ст. 3). Принято разграничивать две формы демократии: непосредственную и опосредованную. Как гласит Конституция, высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свобод- ные выборы. При этом следует признать, что референдумы в новейшей истории нашей страны – явление не частое. На федеральном уровне последним референдумом является собственно всенародное голосование по проекту Конституции, проведенное 12 декабря 1993 г. Соответственно, непосредственное осуществление власти многонациональным российским народом происходит в основном через политические выборы, и за- частую именно к ним и сводится демократия как в обыденном понимании, так и в понимании многих ученых и политиков. Однако уже к 1970-м гг. такое понимание демократии стало переживать кризис: рядом западных ученых стала разрабатываться концепция партисипаторной демократии (демократии участия).
Изначально данная теория появилась как реакция на другую теорию, которую П. Бахрах назвал «демократическим эли-тизмом» [6]. Согласно демократическому элитизму обычный гражданин не обладает достаточными способностями и возможностями для самостоятельного принятия политических решений, однако способен выбрать себе политических представителей. В в свою очередь, выборность представителей как таковая обеспечивает если не правление в интересах народа, то, по крайней мере, защиту от явно антинародной тирании. Отсюда представительная демократия, в которой роль граждан сводилась лишь к избранию представителей, считается демократическими элитистами наиболее привлекательной. В противоположность этому партисипаторную демократию сами ее сторонники определяют как такую модель демократии, при которой принятие политических решений осуществляется при широкомасштабном и, как правило, прямом участии простых граждан, децентрализованно и рассредоточенно [10, p. 4]. Таково общее ценностное ядро всех парти-сипаторных демократов, по которому и происходит выделение соответствующей теории в академической литературе.
Цель статьи заключается в том, чтобы критически рассмотреть взгляды основных ее представителей (К. Пейтмэн, Б. Барбер, К. Макферсон, П. Бахрах) и с учетом этого сформулировать особенности указанной теории.
Несмотря на то, что речь в статье пойдет о теории, которая достигла пика своей популярности около полувека назад, исследование данной теории представляется особенно актуальным в современных условиях, когда теория либеральной демократии переживает кризис, поскольку практическое ее воплоще- ние связано с огромным экономическим неравенством, перерастающим в политическое, а также с социальной разобщенностью и неспособностью ответить на глобальное усиление автократических режимов. В российском контексте актуальность статьи обуславливается в том числе стремлением государства укрепить консолидирующую общенациональную идентичность, необходимую для защиты государственного суверенитета, поскольку одним из способов обеспечения реальной устойчивости данной идентичности можно рассматривать активную вовлеченность народных масс в политические процессы.
Кэрол Пейтмэн. Возникновение соответствующего течения в научной среде нередко связывается с именем К. Пейтмэн, автором книги «Участие и демократическая теория» (1970). Защищая тезис о необходимости широкого и прямого участия населения в политике, Пейтмэн призывает обратить внимание на таких классических авторов, как Ж.Ж. Руссо и Дж.С. Милль, для которых демократия была, во-первых, способом формирования ответственных, добродетельных и образованных граждан, во-вторых, способом интеграции данных граждан и формирования у них чувства принадлежности к сообществу, в-третьих, способом легитимации принимаемых политических решений [14, p. 22-35]. Но хотя все эти положительные стороны демократии имеют в той или иной мере инструментальный, а не сущностный характер, в трудах Пейтмэн отчетливо прослеживается мысль о том, что политическое участие обладает и некоторой самоценностью. Действительно, теоретически мы можем поручить принятие политических решений квалифицированной, добросовестной и справедливой элите. Однако как мы можем считать граждан полноценными моральными агентами, если не позволяем им быть хозяевами собственной жизни и не способствуем их сознательности и ответственности? Только активное участие в решении политических вопросов, по мнению Пейтмэн, делает граждан творцами той социальной среды, в которой они живут.
Доводы Пейтмэн представляются несостоятельными по следующим основаниям.
Во-первых, в действительности отсутствие тех или иных политических прав не обязательно ставит под сомнение общий статус человека как морального агента (то есть его право самостоятельно определять свою судьбу). Вообще возможности человека определять собственную судьбу ограничены как минимум аналогичными возможностями других людей, а также не зависящими от людей объективными факторами. Кроме того, даже в самых продвинутых демократиях граждане не имеют право голоса абсолютно по всем затрагивающим их вопросам, поскольку большинство таких вопросов решается бюрократическим аппаратом. Все это само по себе еще не свидетельствует об ущемлении достоинства граждан. Представляется, что достойное обращение с гражданами подразумевает не максимально широкое народное участие в политике, а всего лишь открытость правящих элит на условиях честной конкуренции (то есть возможность любого гражданина стать частью этих правящих элит, например чиновником или депутатом), а также возможность граждан самим определять, какие вопросы они хотят доверить профессиональным управленцам, а какие – рассматривать непосредственно. В конечном счете спор между демократическими элитистами и демократами участия, упрощая, сводится не к тому, что первые не признают человека моральным агентом, а вторые признают, а к тому, что эти две группы демократов по-разному оценивают желания и способности народа по участию в политике, а также действительную эффективность выборов (представительства) в части реализации воли и интересов народа.
Во-вторых, в действительности практика политического участия является не единственным и далеко не всегда эффективным способом развития политически значимых компетенций и качеств. Безусловно, в целом практика является непременной частью обучения. Однако для того, чтобы обучение было эффективным, практика должна быть выстроена определенным образом, в противном случае она будет способствовать лишь закреплению ошибок. Следовательно, если мы хотим развить политическую квали- фикацию широких народных масс, нам потребуется создание специальных обучающих политических практик, а вовсе не реальное политическое участие народа. Не случайно гражданин, задумывающийся над политическими вопросами и участвующий в дискуссиях на политические темы, как правило, избегает реальной политики, в то время как политически активный гражданин обычно не стремится размышлять [9, p. 29].
В-третьих, совмещение политического участия с политической социализацией может нанести ущерб нормативной обоснованности и эффективности политического управления, так как любое обучение подразумевает совершение ошибок, как минимум поначалу. Чтобы опровергнуть этот тезис, Пейтмэн уделяет особое внимание эмпирически подтвержденным положительным аспектам массового участия граждан в принятии решений на уровне предприятий и местного самоуправления. К сожалению, приводимые ею ссылки на результаты эмпирических исследований доказывают лишь то, что участие в управление делает граждан психологически уверенными в своих способностях, а не то, что оно делает их более компетентными, а управление – более качественным. Но сегодня нельзя не принимать во внимание открытый в 1996 г. эффект Даннинга-Крюгера, согласно которому некомпетентные люди склонны переоценивать свои знания и умения, а также не способны адекватно оценивать действительно высокую компетентность других людей, в то время как последние, напротив, в меньшей степени уверены в своей квалификации [12].
В-четвертых, факторы, влияющие на легитимность правления (в значении одобрения большинством населения), меняются в зависимости от множества обстоятельств и должны быть предметом социологических исследований; нельзя утверждать, что любое увеличение возможностей массового политического участия непременно сделает политический режим более легитимным. Действительно, среди современных мыслителей практически общепринятой считается мысль, согласно которой легитимными могут ока- заться даже совершенно недемократические формы правления. Вспомним выделенные М. Вебером типы легитимности: традиционный, харизматический и легальный [2, c. 252282]. Ни один из этих типов не основан на участии народа в осуществлении власти. И это вряд ли случайно. В этом свете вряд ли общий вывод о том, что активное народное участие в политике повышает легитимность власти, может считаться убедительным. Вообще, представляется, что любая форма правления имеет тенденцию к самолегитимации: как демократические, так и недемократические режимы вынуждены заниматься самолегити-мацией, то есть создавать такие социокультурные условия, при которых альтернативы действующему политическому порядку не смогут выдержать критики. Это связано не только с корыстными устремлениями власть имущих, но и с объективной потребностью в стабильном функционировании государства, а также с врожденными особенностями человеческой психики, благодаря которым возникают такие явления, как, например, самооправдание стереотипов (самореализация прогнозов) [1, c. 705-706] или живучесть выполняющих функцию социального приспособления установок (упрощенно говоря, люди склонны поддерживать существующие устои, а поступающую информацию воспринимать как подтверждающую уже имеющиеся воззрения) [1, c. 717].
Наконец, в-пятых, вопреки Пэйтмэн политическое участие может способствовать не только чувству принадлежности к сообществу, но и обнажению противоречий внутри сообществ: здесь также все зависит от конкретных обстоятельств.
Бенджамин Барбер. Американский политический теоретик Б. Барбер в книге «Сильная демократия» (1984) радикализировал тезис о ценности массового политического участия, высказывая убеждение, что демократия является не средством защиты индивидуальных прав и ценностей, а условием их появления, равно как и условием формирования автономной личности: «Чтобы быть свободными, мы должны быть самоуправляемыми; чтобы иметь права, мы должны быть гражданами. В конце концов, только граждане могут быть свободными» [8, p. XXXVI]. Таким образом, в отличие от Пейтмэн он пытается сказать не просто то, что политическое участие защищает достоинство человека, способствует росту компетентности и ответственности народных масс, а также принятию правильных и легитимных решений, но и то, что без политического участия вообще немыслима индивидуальность, достоинство и интересы которой мы стремимся защитить.
Вместе с тем данные суждения представляются чрезмерно категоричными по двум причинам. Во-первых, Барбер неправомерно отождествляет самоуправление и социализацию. Нет смысла спорить с тем, что личность формируется только в социуме. Однако социализация во многом осуществляется в рамках специальных «попечительских» институтов (семья, школа и т.п.), не всегда практикующих прямое участие подопечных в решении социально значимых вопросов. Кроме того, социализация во многом связана с игрой, т.е. с имитированием социальных практик, а не с реальным участием в них. Таким образом, социализация личности и принятие ею непосредственного участия в решении публичных проблем не тождественны. Во-вторых, Барбер отождествляет политику с публичной активностью как таковой, а демократию – с участием широких слоев населения в любых общественных делах. Традиционное же понимание политики и демократии (т.е. применительно лишь к управлению государством) сразу поднимает вопрос: действительно ли мы можем отрицать свободную личность жителей деспотических государств или же свободную личность политически апатичных индивидов? Таким образом, отсутствие политического участия вовсе не ущемляет достоинство личности и не является необходимым для ее формирования.
Приведенные соображения в совокупности вынуждают нас отвергнуть тезис Барбера о безусловной необходимости политического участия для формирования полноценной личности. На поверку оказывается, что массовое политическое участие не может быть ничем иным, кроме как средством достиже- ния нормативно правильного социального устройства.
Барбер критикует «тонкую модель демократии», то есть такую модель, которая видит задачу государства в защите негативной свободы и реализации индивидуальных интересов граждан и которая с этой целью, с одной стороны, пытается предотвратить «тиранию» большинства или меньшинства через права человека и систему сдержек и противовесов, с другой стороны, пытается обеспечить надлежащий уровень отзывчивости власти по отношению к интересам подвластных, но полагает, что это возможно в рамках представительной, а не прямой демократии. Таким образом, «тонкая модель демократии» у Барбера – это, по сути, элитистский вариант либеральной демократии. Этой модели мыслитель противопоставляет свою модель «сильной демократии» (strong democracy), ориентированную на республиканское понимание свободы как самоуправления и на «общее благо», политическое участие, децентрализацию и прямую демократию, и видящую основные права и свободы результатом демократии, а не ее предпосылкой. Собственно «сильная демократия» в терминологии Барбера означает, упрощенно говоря, массовое участие ответственных и разумных (т.е. обладающих добродетелью гражданственности) индивидов в решении политических вопросов в рамках сообществ. По мнению ученого, сообщество без участия лишь рационализирует деспотичный коллективизм, отрицающий свободную индивидуальность, в свою очередь, участие без сообщества чревато охлократией, т.е. господством частного интереса толпы; и то и другое вредит гражданственности [8, p. 155], в то время как «сильная демократия» – это своего рода золотая середина.
Характеризуя политические разговоры (political talk) в сообществах, Бабрер сближается с идеями «совещательной демократии», к началу 1980-х гг. уже активно набиравшими обороты. И все же Барбер в целом не ориентируется на консенсус, так как понимает политику как сферу конфликта [8, p. 166]. Так или иначе, делиберацией, казалось бы, ре- шается проблема качества (ответственности и разумности) массового политического участия. Но действительно ли качественное политическое участие совместимо с его массовостью? Всегда ли, например, в наших силах сформировать широкую сеть добровольных сообществ, и поддерживать должный уровень продуктивной активности внутри них? Способно ли самоуправление сообществ заменить традиционные властные институты? Эти вопросы, бросающие тень на концепцию «сильной демократии», стали впоследствии одними из центральных для сторонников «совещательной демократии». Барбер, понимая возможные трудности, занимает следующую позицию: представительство всегда является «планом Б», а приоритет по возможности следует отдавать непосредственному участию [8, p. 273].
В целом «сильная демократия» – это ярко выраженный коммунитаристско-республи-канский вариант демократии участия. В литературе Барбера причисляют и к коммунитаристам (поскольку он делает акцент на общем благе) [15, s. 362], и к республиканцам (поскольку он придает особую ценность политическому участию, делиберации и гражданским добродетелям, а свободу понимает как самоуправление) [16, s. 158].
Кроуфорд Броу Макферсон. Если Пейт-мэн и Барбер акцентировали внимание на самоценности политического участия, то канадский политолог К.Б. Макферсон предложил совершенно другую линию обоснования демократии участия. Данный ученый считал концепцию демократического элитизма (ее он называл «моделью равновесия»), отрицающую ценность активного политического участия масс, правильной лишь с точки зрения описания существующей действительности, но не с точки зрения нормативного идеала. По его мнению, «модель равновесия» (т.е. модель, при которой множество индивидов выбирает правящие элиты в соответствии со своими политическими предпочтениями, и тем самым достигается равновесие между спросом и предложением политических благ) тесно связана с господством рыночных отношений и рыночного мышления. Однако Макферсон выступает резко против такого господства [3; 13]. Таким образом, если демократические элитисты в обоснование своей концепции ссылались на то, что она является наиболее реалистичной с учетом способностей и желания большинства людей относительно участия в политике, то сторонники демократии участия, не оспаривая весьма прискорбное положение дел, придерживаются веры в то, что возможно создать другую реальность, отличную от существующей.
По мнению Макферсона, рынок не может обеспечить вознаграждение, пропорциональное вложенным усилиям, поскольку эффективность данных усилий зависит от имеющихся факторов производства, распределяющихся далеко не всегда по заслугам. Кроме того, рынок способен максимизировать лишь то удовлетворение, которое отдельные люди могут позволить себе купить, а не вообще совокупное удовлетворение общества. Следовательно, рынок по своей сути склонен усиливать неравенство и не является справедливым механизмом. Но Макферсона беспокоит еще и то, что рынок постоянно порождает у человека ощущение дефицита и необходимость постоянной конкуренции. При таких обстоятельствах рыночную систему нельзя считать справедливой, поскольку она не способствует предоставлению каждому возможностей для свободного саморазвития.
Ту же критику ученый переносит и на рынок политических благ, где мы встречаем неравные возможности для политического влияния, что порождает политическую апатию большей части населения, а также тенденцию к не учитывающей их интересы олигополии (политики, которые сами по себе уже являются классом «избранных», учитывают интересы только тех субъектов, которые имеют реальные рычаги влияния на них, т.е. чей спрос на конкретную политику является эффективным). Словами И. Шапиро: «Подобно тому, как у многих есть потребности, для выражения которых через рынок они не располагают необходимыми экономическими ресурсами, точно так же многие, имея интересы, не имеют ресурсов, чтобы выразить их через орга- низованные политические группы интересов. Если молодежь, бедняки, люди, потерявшие здоровье, душевнобольные и многие другие не организованы в эффективные группы, то это не значит, что все они не существуют» [5, c. 20]. Причем как потребитель на рынке, так и избиратель в политике не являются суверенными, поскольку их предпочтения и способы удовлетворения данных предпочтений уже заранее формируются поставщиками благ. При таких обстоятельствах конкуренция политических элит в политике вовсе не гарантирует ни удовлетворения запросов большинства граждан, ни их права на реализацию собственных представлений о достойной жизни.
Как и другие партисипаторные демократы, К.Б. Макферсон критикует позицию, согласно которой для функционирования демократии необходимо не слишком активное участие населения в политике. Для него данная позиция имеет отношение только к вполне конкретной модели демократии («модели равновесия»), но именно ее ученый и не принимает. Отсюда вовсе не обязательно, что справедливое общественное устройство требует политической пассивности масс. Но доказано ли Макферсоном обратное?
Для Макферсона справедливым является предоставление каждому гражданину возможности полноценного и свободного развития своих способностей (то есть по сути либеральный политический идеал). С этой целью, как он предполагает, необходимо предоставить всем слоям населения возможность артикулировать и эффективно отстаивать свои интересы. Но поскольку низкий уровень политического участия тесно связан с отсутствием такой возможности, справедливое общественное устройство, по всей видимости, предполагает большее политическое участие. Следовательно, весьма вероятно, что создание условий для полноценного и свободного развития личности требует массового политического участия.
В изложенной позиции имеется ряд слабых мест. Так, во-первых, Макферсону следовало бы более убедительно показать, что для достижения его идеала справедливости широ- кие народные массы должны иметь возможность не только выражать свои потребности, но еще и оказывать давление на правящую элиту (т.е. ученому необходимо опровергнуть не только демократический элитизм, но и идею недемократического «попечительского» правления, регулирующего возникающие конфликты интересов подданных на основе некоторых объективно обоснованных моральных принципов, не испытывая на себе давление народа). Во-вторых, рассматриваемая логика подразумевает стремление именно к увеличению таких возможностей, а не к большему политическому участию самому по себе, так как даже при наличии искомых возможностей мыслима политическая апатия, вызванная другими причинами. Например, Ш. Муфф полагает, что даже при создании всех условий политического участия возможна политическая апатия, связанная с навязываемым требованием постоянно стремиться к достижению консенсуса [4, c. 61]. Короче говоря, политическое участие в логике самого Макферсона должно быть лишь средством, но он необоснованно делает его главной целью. В-третьих, предоставление каждому возможности эффективно отстаивать свои интересы вовсе не обязательно должно привести к социальному порядку, при котором каждому будет обеспечена возможность полноценного и свободного развития. Так, даже если каждый гражданин имеет обширные политические права, и эти права у всех равны, это не означает, что в обществе будет установлен либеральный порядок, гарантирующий защиту интересов меньшинств, поскольку все еще сохраняется угроза «тирании большинства».
Кроме того, остается проблема достижимости идеала демократии участия. Макферсон понимает эту проблему и пишет: «Политическая система, которая, например, требует, чтобы граждане были более рациональными или политически более ангажированными по сравнению с тем, какими они ныне являются и, как можно ожидать, будут в любых достижимых социальных условиях, вряд ли заслуживает особой защиты» [3, c. 12-13]. Отсюда, свою задачу ученый видит в том, чтобы показать достижимость необходимых социальных условий. Однако, как представляется, соответствующие доказательства вряд ли будут универсальными. Целесообразнее исследовать возможности повышения рациональности и активности широких слоев населения применительно к каждому конкретному вопросу.
Питер Бахрах. Другой апологет демократии участия – американский ученый П. Бахрах – в своих трудах высказывал тезисы, разделяемые вышеперечисленными сторонниками демократии участия, и попытался выдвинуть дополнительные аргументы в их защиту (правда, при этом раскритиковал Пейтмэн за придание ключевого значения самому процессу демократического участия, а не конечному результату [7, p. 117-124]). Как и Макферсон, Бахрах делает акцент на том, что при формально равных политических правах фактические возможности политического участия большей части населения явно несоразмерны таковым у элиты, что приводит к социальной дискриминации. «Маленькому человеку» в принципе труднее донести до сведения представителей власти свои нужды, а уж если власть отказывается ему содействовать, то для достижения политического влияния ему нужно проявить незаурядные способности к объединению с такими же, как он. В итоге альтернативные издержки политического участия возрастают настолько, что делают его бессмысленным. Но дело даже не в этом, так как сама социальная структура такова, что в ее рамках «маленькому человеку», как правило, наиболее выгодным бывает как раз согласиться с господством над ним капиталистической элиты. Выход Бахрах видит в изменении данной социальной структуры, т.е. «правил игры», создающих неравные возможности. Как и другие авторы, он делает ставку на рабочий контроль и самоуправление рабочих (workplace democracy) и настаивает на том, что политическое участие способствует повышению политической компетентности и ответственности граждан, что в итоге сказывается и на качестве управления [6, p. 95, 105].
Целью настоящей статьи не было выявление всех достоинств и недостатков теории демократии участия в целом. Однако предшествующий анализ по крайней мере показывает, какие недостатки свойственны взглядам каждого из рассмотренных авторов, и тем самым данная статья, как представляется, может внести вклад в споры о демократии участия. Основная же цель статьи была в том, чтобы рассмотреть взгляды «корифеев» пар-тисипаторной демократии. С этой целью в завершение статьи представляется необходимым провести краткий сравнительный анализ этих взглядов.
Так, между взглядами всех приведенных авторов имеются существенные сходства. Важное сходство состоит в том, что (1) все они воспринимают демократию как средство для того, чтобы представить каждому возможности личностной самоактуализации. Как следствие, (2) они нередко настаивают на необходимости преодоления крайнего экономического расслоения. Кроме того, (3) партисипаторные демократы уделяют много внимания формированию чувства общности и гражданственности, а также (4) участию в решении вопросов на уровне муниципалитета или предприятия. Наконец, (5) практически всех они ищут вдохновения у Руссо и Милля, видевших в демократии способ развития определенных человеческих качеств. Таким образом, партисипаторных демократов объединяет далеко не только общая симпатия к прямой демократии, но и ряд других важных характеристик.
Важное различие во взглядах рассмотренных авторов заключается в том, что для одних (Пейтмэн, Барбер) политическое участие ценно как непременный спутник социализа- ции и развития личности, а также основное средство выработки общих представлений о благе, тогда как для других (Макферсон, Бахрах) таковое является в первую очередь средством увеличения возможностей личности по реализации собственных интересов, средством в борьбе с социальной дискриминацией и с дегуманизирующей культурой [11]. Отсюда создается впечатление, что Пейтмэн и Барбер видят в политическом участии не просто инструментальную ценность для достижения социально или индивидуально правильного результата, но и сам по себе идеал благой жизни. Как результат, мы наблюдаем два различных обоснования политического участия: одно либеральное, другое – республиканское. Макферсон, например, выделяет в рамках либеральной демократии протекционистскую модель (демократия как защита от правительства, акцент на негативной свободе) и модель развития (демократия как возможность раскрытия потенциала личности, акцент на позитивной свободе), рассматривая демократию участия как продолжение моральных тезисов модели развития, т.е. как одну из версий либеральной демократии [3, c. 171-172], тогда как Барбер прямо противопоставляет «сильную демократию» либеральной демократии (понимая свободу как самоуправление, он отдает приоритет общему благу, а не индивидуальным интересам). Таким образом, хотя у взглядов рассмотренных партисипаторных демократов есть масса общих черт, им свойственны и отличия, которые позволяют выделить в рамках демократии участия два основных направления: либеральное и республиканское.