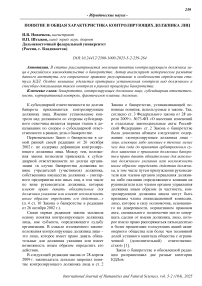Понятие и общая характеристика контролирующих должника лиц
Автор: Новичков И.В., Штыков В.П.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Юридические науки
Статья в выпуске: 5-2 (104), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается эволюция понятия контролирующего должника лица в российском законодательстве о банкротстве. Автор анализирует историческое развитие данного института, его современное правовое регулирование и особенности определения статуса КДЛ. Особое внимание уделяется критериям установления контроля над должником и способам доказывания такого контроля в рамках процедуры банкротства.
Банкротство, контролирующее должника лицо, субсидиарная ответственность, корпоративный контроль, фактическое влияние, должник
Короткий адрес: https://sciup.org/170209375
IDR: 170209375 | DOI: 10.24412/2500-1000-2025-5-2-259-264
Текст научной статьи Понятие и общая характеристика контролирующих должника лиц
К субсидиарной ответственности по долгам банкрота привлекаются контролирующие должника лица. Именно установление контроля над должником со стороны субсидиарного ответчика является первым этапов в доказывании по спорам о субсидиарной ответственности в рамках дела о банкротстве.
Первоначально Закон о банкротстве в самой ранней своей редакции от 26 октября 2002 г. не содержал дефиниции контролирующего должника лица. Между тем, положения закона позволяли привлекать к субсидиарной ответственности по долгам организации «в случае банкротства должника по вине учредителей (участников) должника, собственника имущества должника - унитарного предприятия или иных лиц, в том числе по вине руководителя должника, которые имеют право давать обязательные для должника указания или имеют возможность иным образом определять его действия…» (п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве в редакции от 26 октября 2002 г.).
Самая первая редакция закона заложила основу понятия контролирующего должника лица, как субъекта, определяющего судьбу организации. В смысле изложенного законоположения контролирующее должника лицо – это лицо, которое имеет право давать обязательные для должника указания или имеет возможность иным образом определять его действия.
В следующей редакции закона от 28 апреля 2009 г. законодатель легально закрепил понятие контролирующего должника лица в ст. 2
Закона о банкротстве, устанавливающей основные понятия, используемые в законе. Так, согласно ст. 3 Федерального закона от 28 апреля 2009 г. №73-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ст. 2 Закона о банкротстве была дополнена абзацем следующего содержания: «контролирующее должника лицо – лицо, имеющее либо имевшее в течение менее чем два года до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника , в том числе путем принуждения руководителя или членов органов управления должника либо оказания определяющего влияния на руководителя или членов органов управления должника иным образом (в частности, контролирующим должника лицом могут быть признаны члены ликвидационной комиссии, лицо, которое в силу полномочия, основанного на доверенности, нормативном правовом акте, специального полномочия могло совершать сделки от имени должника, лицо, которое имело право распоряжаться пятьюдесятью и более процентами голосующих акций акционерного общества или более чем половиной долей уставного капитала общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью)» [1].
Закон о банкротстве в обновленной редакции разграничивал две разные категории КДЛов:
-
1. лицо, имеющее право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника;
-
2. лицо, имевшее в течение менее чем два года до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника [2, с. 250].
Далее, изменениями 2016 года слово «два» было заменено словом «три», а после слов «или возможность» было дополнено словами «в силу нахождения с должником в отношениях родства или свойства, должностного положения либо» (Федеральный закон от 23.06.2016 № 222-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [3]).
Итак, с 1 сентября 2016 г. второй категорией КДЛов стали лица, имевшее в течение менее чем три года до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника.
Возможность же определять действия должника контролирующим лицом в указанной редакции закона стала раскрываться в том числе через нахождение с должником в отношениях родства или свойства, должностного положения.
Заключительным этапом становления понятия контролирующего должника лица стал 2017 год. Тогда была проведена крупная реформа отечественного банкротного законодательства в целом.
30 июля 2017 г. вступили в силу изменения в Закон о банкротстве, которыми был упразднен абз. 34 ст. 2 Закона о банкротстве, закреплявший легальное определение КДЛа, а также была упразднена ст. 10 Закона о банкротстве, регламентировавшая ответственность должника и иных лиц в деле о банкротстве (Федеральный закон от 29.07.2017 N 266-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» [4]).
Вместе с тем, реформой была введена новая глава в Закон о банкротстве: «гл. III. 2 «Ответственность руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве» (ст. 61.1061.22 Закона о банкротстве).
Правовое регулирование статуса контролирующего должника лица было закреплено в ст. 61.10 Закона о банкротстве, где оно поныне и содержится.
Легальное понятие контролирующего должника лица с реформы 2017 года не изменилось.
Так, согласно действующего законодательства, а именно п. 1 ст. 61.10 Закона о банкротстве, под контролирующим должника лицом понимается физическое или юридическое лицо, имеющее либо имевшее не более чем за три года, предшествующих возникновению признаков банкротства, а также после их возникновения до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника, в том числе по совершению сделок и определению их условий.
Из анализа дефиниции следует, что п. 1 ст. 61.10 Закона выделяет три категории КДЛов:
-
1) лицо, имеющее право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника;
-
2) лицо, имевшее не более чем за три года, предшествующих возникновению признаков банкротства, право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника;
-
3) лицо, имевшее в период с момента возникновения признаков банкротства и до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника [2, с. 251].
Таким образом, Закон о банкротстве минуя четыре этапа реформации на 15-летнем отрезке времени пришел к современному понимаю контролирующего должника лица.
Содержательно, с 2002 года осталось исконное понимание КДЛа, как лица имеющего право давать обязательные для должника указания либо имеющего возможность определять его действия.
По сути, за все эти года был добавлен период влияния КДЛа на должника в качестве признака статуса. Безусловно, сравнивания редакцию закона 2002 года и современный этап развития банкротного законодательства заметно, что добавились презумпции доказывания такого статуса, а также расширилось понимание действий, направленных на контроль предприятия, однако в части дефиниции добавился лишь период, в течение которого контролирующее должника лицо влияло на фирму, в качестве признака контролирующего должника лица [5, с. 156].
Доктор юридических наук Голубцов В.Г., рассуждая о значении указанного выше признака для привлечения к субсидиарной ответственности, отмечает следующее: «Для привлечения к субсидиарной ответственности важен не период влияния (существование права давать обязательные для исполнения должником указания или возможности иным образом определять действия должника)… Важно другое обстоятельство: период или дата, когда совершено действие (бездействие), приведшее к банкротству должника. Очевидно, что законодатель, вводя этот срок, имел в виду, что приведшее к банкротству действие (бездействие) контролирующего должника лица должно быть совершено в течение этого срока, чтобы возникло такое условие для привлечения к субсидиарной ответственности, как противоправное поведение субъекта правонарушения» [2, с. 252].
Суждение ученого обоснованно и логично. При отличном толковании законоположения выходит, что для признания лица контролирующим должника, необходимо доказывать осуществление контроля на протяжении всего 3-летнего периода, что не может иметь правовое значения для целей привлечения к субсидиарной ответственности.
Все же генеральным признаком контролирующего должника лица является наличие фактической возможности давать должнику обязательные для исполнения указания или иным образом определять его действия.
На главенство данного признака указывают как положения закона о банкротстве (п. 1 ст. 61.10 Закона о банкротстве), закрепляющие легальное определение КДЛа, законоположения общей части Гражданского кодекса
РФ (п. 3 ст. 53.1 ГК РФ), так и Верховный Суд РФ (п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 №53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» (далее – ППВС №53)).
Данная правовая конструкция напоминает корпоративный контроль.
Правоведы связывают корпоративный контроль со способностью окончательно определять решения юридического лица без возможности игнорирования воли контролирующего лица [6].
Курбатов А.Я. определяет корпоративный контроль как возможность участвовать в принятии решений высшим органом корпоративной организации [7].
В свою очередь Шиткина И.С. считает, что корпоративный контроль – это способность определять решения корпорации как результат распределения власти среди субъектов корпоративных отношений [8, с. 345].
Из анализа следует, что корпоративный контроль неразрывно связан с управлением корпорацией.
Между тем, контроль КДЛов в банкротстве выделяется на фоне иных видов контроля (корпоративный, экономический и т.д.) своей универсальностью. Проявляется это в том, что в банкротстве контроль может реализовывать как с помощью каких-либо формальных рычагов влияния, так и с помощью фактических.
Согласно п. 2 ст. 61.10. Закона о банкротстве возможность определять действия должника может достигаться:
-
1) в силу нахождения с должником (руководителем или членами органов управления должника) в отношениях родства или свойства, должностного положения;
-
2) в силу наличия полномочий совершать сделки от имени должника, основанных на доверенности, нормативном правовом акте либо ином специальном полномочии;
-
3) в силу должностного положения (в частности, замещения должности главного бухгалтера, финансового директора должника либо лиц, указанных в подпункте 2 пункта 4 настоящей статьи, а также иной должности, предоставляющей возможность определять действия должника);
-
4) иным образом, в том числе путем принуждения руководителя или членов органов
управления должника либо оказания определяющего влияния на руководителя или членов органов управления должника иным образом.
Заслуживает внимания тот факт, что перечь является открытым. Выходит, что контролирующим лицом может быть абсолютно любое лицо, которое так или иначе определяло хозяйственную судьбу должника. Осуществление фактического контроля над должником возможно вне зависимости от наличия (отсутствия) формально-юридических признаков аффилированности (абз. 2 п. 3 ППВС №53).
Причем неважно в каком статусе такое контролирующее лицо выступало в отношении ответчика, важно лишь, что оно повлияло на деятельность должника так, что изменило хозяйственную составляющую его деятельности, что в конце концов привело к объективному банкротству.
Указанное следует из судебной практики Верховного Суда РФ: «Если сделки, изменившие экономическую и (или) юридическую судьбу должника, заключены под влиянием лица, определившего существенные условия этих сделок, такое лицо подлежит признанию контролирующим должника» (абз. 3 п. 3 ППВС №53).
Примерами иных оснований признания статуса КДЛа могут служить любые неформальные личные отношения, в том числе установленные оперативно-разыскными мероприятиями, например, совместное проживание (в том числе состояние в т.н. гражданском браке), длительная совместная служебная деятельность (в том числе военная служба, гражданская служба), совместное обучение (одноклассники, однокурсники) и т.п. [9].
Также, об отношениях подконтрольности могут свидетельствовать следующие обстоятельства: синхронные действия должника и контролирующего лица при одновременном отсутствии объективных экономических причин, которые в свою очередь противоречат интересам должника и ведут к имущественной выгоде лица, привлекаемого к ответственности; при этом, данные действия могли быть осуществлены только при наличии подчиненности [10].
Доктрина относительно способов достижения возможности определять действия должника настроена скептически.
Так, Буракова К.Б. отмечает, что некоторые случаи, указанные в норме ст. 61.10. Закона о банкротстве, с определенной долей условности могут свидетельствовать о фактическом контроле над должником. По мнению ученого, нельзя однозначно говорить о том, что наличие родственных связей предполагает взаимозависимость лиц, поскольку все зависит от конкретной ситуации [11, с. 21].
Некоторые правоведы вовсе негативно оценивают положения п. 2 ст. 61.10. Закона о банкротстве. Орленко В. Считает, что пп. 3 п. 2 ст. 61.10. Закона о банкротстве позволяет отнести к перечню контролирующих лиц любых топ-менеджеров организации-банкрота [12, с. 6]. Хотя не ясно почему по мнению автора такое расширительное понимание статуса контролирующего должника лица имеет отрицательное для института субсидиарной ответственности значение.
Важно уяснить в этой части главный момент, который разъяснял Верховный Суд РФ: «суд устанавливает степень вовлеченности лица, привлекаемого к субсидиарной ответственности, в процесс управления должником, проверяя, насколько значительным было его влияние на принятие существенных деловых решений относительно деятельности должника.» (абз. 2 п. 3 ППВС №53).
То есть само по себе участие в органах должника (п. 5 ППВС №53) либо нахождение с руководителем должника в родстве не свидетельствует о наличии статуса контролирующего его лица. Законодатель в данном случае указывает нам лишь на возможные сценарии того, как может проявляться контроль в отношении должника.
Поэтому первостепенным признаком КДЛа является все же фактическая возможность определять действия должника вне зависимости от того в каком статусе по отношению к должнику выступает это лицо: руководитель, участник общества либо вовсе фактический бенефициар. То, как влияет контролирующие должника лицо, имеет значение лишь для доказывания и распределения бремени такого доказывания, но правовая сущность от этого не меняется.
Таким образом, под контролирующим должника лицом понимается физическое или юридическое лицо, имеющее либо имевшее не более чем за три года, предшествующих возникновению признаков банкротства, а также после их возникновения до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника, в том числе по совершению сделок и определению их условий.
Статус контролирующего должника лица складывает из двух признаков: во-первых, способность влиять на компанию, во-вторых, период влияния на должника (учитывается трехлетний период до возникновения признаков объективного банкротства, а также после их возникновения до принятия судом заявления о признании должника банкротом) [13, с. 105].
Анализ законодательства и правоприменительной практики позволяет заключить, что КДЛом может быть любое лицо, которое так или иначе фактически определяло поведение должника.