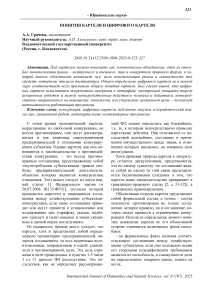Понятия картеля и цифрового картеля
Автор: Грачева А.А.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Юридические науки
Статья в выпуске: 8 (107), 2025 года.
Бесплатный доступ
Под картелем можно понимать как экономическое объединение, один из способов монополизации рынка – внутреннего и внешнего, так и конкретную правовую форму, в которой данное объединение возникает, т.е. цели монополизации рынка и совокупность тех средств, которыми эти цели достигаются. Однако определение цифрового картеля не в полной мере соответствует всем признакам общего понятия картеля. Был сделан вывод, что цифровые картели исполняются посредством внедрения в интерфейс электронной площадки торгов аукционных роботов и между непосредственным действием человека и действием, непосредственно направленным на повышение, понижение или удержание аукционной цены – возникает автоматически работающая программа.
Конкуренция, цифровые картели, публичные закупки, алгоритмический анализ цен, аукционный робот, антикартельные компьютерные программы
Короткий адрес: https://sciup.org/170210901
IDR: 170210901 | DOI: 10.24412/2500-1000-2025-8-323-327
Текст научной статьи Понятия картеля и цифрового картеля
С точки зрения экономической, картели, вырастающие из свободной конкуренции, не всегда противоправны, они могут рассматриваться и как взаимные самоограничения предпринимателей в отношении конкурирующих субъектов. Однако картели, как они понимаются в законодательстве о противодействии конкуренции, – это всегда противоправные соглашения, представляющие собой злоупотребления субъективным правом свободы предпринимательской деятельности, объектом которых являются конкурентные отношения. Этот вывод следует из части первой статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ [1], согласно которой признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, если такие соглашения приводят или могут привести к установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок и иным указанным в данной норме последствиям.
Из сказанного, прежде всего, следует, что картель, хотя и представляет собой определенную организацию предпринимателей, является соглашением, то есть встречным волеизъявлением, направленным к одной, единой, хотя и противоправной, цели. Эта цель отражена в пяти приведенных в пунктах 1-5 части 1 ст. 11 данного ФЗ последствиях. Эти последствия, как их определяет рассматривае- мый ФЗ, можно определить как ближайшие, т.е. те, к которым непосредственно приводят картельные действия. Они отличаются от последствий дальнейших, состоящих в причинении имущественного вреда лицам, в отношении которых вводились на товарном (или ином) рынке.
Хотя правовая природа картеля в литературе остается дискуссионной, представляется, что по своему существу это соглашение являет собой не сделку (в этой связи представляются беспочвенными суждения о том, что картель наше законодательство превращает в гражданско-правовую сделку [2, с. 31-32]), а гражданское правонарушение.
Объективная сторона картеля представляет собой формальный состав, а точнее – состав опасности: противоправно не только соглашение, которое привело, но и соглашение, которое может привести к ограничению конкуренции. Исходя из определения данного понятия, выявление картеля по его объективной стороне становится возможным тремя способами:
– по формальному факту наличия соответствующего соглашения между хозяйствующими субъектами, если оно подписано всеми его сторонами (специфическим требованием является их способность, в совокупности доли на определенном товарном рынке, влиять на него);
– по фактически согласованным действиям хозяйствующих субъектов, создающим, ситуацию ограничения конкуренции на товарном рынке, если совокупная доля этих субъектов способна существенно повлиять на него;
– по фактически согласованным действиям хозяйствующих субъектов, использующих объективно сложившуюся ситуацию на товарном рынке в целях ограничения конкуренции. Именно к этим случаям относится суждение, например, о том, что при определении антимонопольного (картельного) правонарушения «регулятор ограничивается лишь установлением фактических последствий, указанных в п. 1-5 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»..., анализ состояния конкуренции проводится лишь для установления факта того, что участники являются конкурентами» [3, с. 16]. Третья группа способов выявления картеля сводится именно к анализу последствий картельного соглашения, которые наиболее заметны на рынке, и вторым из подлежащих доказыванию по картельному делу юридических фактов, как замечает упомянутый автор, является нахождение участников картеля в единой (общей) для них конкурентной среде.
Сразу следует отметить, что картель – лишь одно из видов соглашений, относимое к «горизонтальным». Более подробную видовую характеристику таких соглашений даёт В.В. Кванина: «антиконкурентные соглашения подразделяются на горизонтальные (картели), вертикальные и иные (ч. 1, 2, 4 ст. 11 Федерального закона № 135-ФЗ). Наибольший вред для экономики страны приносят горизонтальные соглашения (картели)» [4, с. 7]. Несмотря на то, что суждение о «наибольшем» вреде именно картельных соглашений статистически данным автором не подтверждено, нельзя не признать, что для цифровых картельных сговоров характерны именно горизонтальные соглашения.
Еще одна особенность картелей на торгах – их направленность на повышение, понижение (в зависимости от методики проведения торгов их организатором) или поддержание цены. В частности, как утверждала в 2021 году сама ФАС (в лице Управления по борьбе с картелями), дела о картелях на торгах составляют «более 80% от общего количества дел об ограничивающих конкуренцию соглашениях, запрет на которые был установлен пунктом 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции» [5].
Однако основная особенность цифровых картелей состоит, по определению, в том, что они исполняются посредством внедрения в интерфейс электронной площадки торгов специальных программ (так называемых аукционных роботов). Иначе говоря, между непосредственным действием человека и действием, непосредственно направленным на повышение, понижение или удержание аукционной цены – возникает автоматически работающая программа, которая и совершает эти действия. Так, по одному из определений, общественная опасность цифровых картелей заключается в том, что «использование технологий изменяет тип сговора, делая его более устойчивым, усложняет выявление участников картеля, приводит к отдалению личности преступника от совершаемого им деяния» [6, с. 544]. Видимо, речь должна идти не только об общественной опасности (преступном состоянии), но и в целом – об общественной вредности цифровых картелей.
В литературе отношение к степени общественной вредности цифровых картелей пока не однозначно.
В уголовно-правовой литературе и в практике цифровой характер картеля пока не влияет на меру наказания. С одной стороны, специалисты по уголовно-правовой охране отношений в сфере искусственного интеллекта утверждают о повышенной общественной опасности цифровых картелей [7, с. 17]. Этой же позиции придерживаются А.П. Тенишев и А.В. Тесленко [8, с. 128], а также специалисты достаточно авторитетной Высшей школы экономики [9, с. 44]. С другой стороны, признается, что сам по себе цифровой характер используемых для картелизации рынков или торгов программных модулей – еще не влечет ни изменения в правовой природе, ни повышения общественной опасности цифровых картелей, а следовательно, нет и социальнозначимых причин установления в уголовном составе о нарушениях конкурентного законодательства дополнительного квалифицирующего признака, связанного с цифровыми картелями. Во всяком случае, пока законодатель не торопится криминализовать цифровые аспекты картельных сговоров. В частности, ука- зание на повышенную сложность выявления цифровой картелизации и доказывания ее факта (непосредственных действий и работы программы) – опровергается указанием на известность и уже даже типичность использования для доказывания таких новых доказательств, как «совпадение IP-адреса, МАС-адреса, использование одной точки доступа в интернет, единые свойства файлов и прочее» [6, с. 545].
В то же время в законодательстве об административных правонарушениях картелизация с использованием цифровых технологий в качестве отягчающего обстоятельства – признаётся. В частности, согласно пункту 3 Примечания 4 к ст. 14.32 КоАП РФ, учитывается, в частности, такое обстоятельство, как «использование... в целях исполнения ограничивающего конкуренцию соглашения... программы для электронных вычислительных машин, позволяющей осуществлять принятие решений (совершение действий), направленных на исполнение такого соглашения, в автоматическом режиме (без участия человека)». Этот пункт был добавлен в Примечание 4 к данной статье в рамках так называемого Пятого антимонопольного пакета (комплекса законодательных изменений в институт противодействия цифровой картелизации) [10, с. 36]. Иначе говоря, квалифицирующим признаком в данном случае является использование специального средства, или орудия совершения правонарушения – программы для ЭВМ, которые в специальной литературе именуются аукционным роботом или аукционным ботом.
Аукционный робот – это специальный программный модуль, являющийся частью функционала личного кабинета участников аукциона на электронной площадке АО «Сбербанк– АСТ», позволяющий на основании электронного документа-поручения с настройками аукционного робота, заполненного и подписанного электронной подписью участника, автоматическую подачу ценовых предложений на конкретном электронном аукционе от имени участника аукциона до заданного таким участником предела ценового предложения [11]. Его главное свойство – в том, что его использование, само по себе, не противоправно. В свою очередь, аукционный бот, как и робот, относится к числу программ для ЭВМ, однако она создаётся для иных задач:
1) автоматическая обработка сообщений и 2) автоматическое отправление сообщений с заранее определенным содержанием [12]. В данном случае речь идет о диалоговых программах, то есть программах, которые позволяют вести диалог с пользователем без участия человека, составляя его, хотя бы на узко определенных участках его деятельности, функциональную замену. Как и в отношении аукционного робота, использование аукционного бота – не противоправно: для квалификации правонарушения необходимо определить, что настройки этого робота, или программы, были нацелены на достижение противоправного результата – ограничения конкуренции.
С точки зрения антикартельного менеджмента, выделяются следующие особенности цифровых картелей: децентрализация с одновременной иерархией по признаку приближенности к наиболее крупному члену картеля, использование соцсетей и основное содержание взаимодействия не уровне не руководящих сотрудников входящих в картель организаций, а на уровне специалистов. С точки зрения способа цифрового картелирования, выделяются три варианта действий:
– соглашения между людьми, реализуемые посредством цифровых программ. Это исторически первый и наименее технологичный вид цифровой картелизации, который в России был реализован чаще всего на публичных торгах, а в зарубежных странах – на открытом рынке;
– отсутствие прямого сговора на картель, но использование идентичных программ, т.е. программ, содержащих один и тот алгоритм, т.е. цифровую модель развития рыночной ситуации, направленную на повышение цены. Как правило, этот алгоритм содержит две подпрограммы: во-первых, структурного ценового анализа рынка и размещения предложения на тех рынках, где цена выше, и, во-вторых, повышения цены, когда это становится возможным, в том числе – путём «следования за рынком» (вследствие чего использующего ее хозяйствующего субъекта невозможно обвинить в картельном завышении цен). На этом этапе информационные, аналитические и рекомендационные функции формирующегося объективно картеля принимает на себя чаще всего разработчик соответствую- щей программы, устанавливаемой участниками картеля независимо друг от друга. На этом этапе возможен, в частности, анализ всех ценовых данных (которые собираются программой у ее пользователей и анализируются уже на уровне разработчика программы). Однако решающее влияние на ценовую политику участников «молчаливого сговора», или «молчаливого картеля» оказывает субъект права – разработчик программы;
– автоматизированное картелирование, или «сговор алгоритмов», что и составляет существо картелизации посредством искусственного интеллекта. Особенность самообучающейся программы состоит в уведомлении других алгоритмов об избранной ценовой стратегии. Как следствие таких взаимных сообщений, алгоритмы (если они – самообучающиеся) могут достигнуть определенного согласия в формировании единой ценовой стратегии (что и именуется «сговором алгоритмов»), при этом пользователи могут вообще не знать о подобном сговоре, что исключает их умысел на картель.
Использование самообучающейся программы ставит, с точки зрения цивилистиче-ской теории, вопрос о том, возможно ли применение к ее пользователям картельной ответственности. Возможность применения к пользователям самообучающихся программ картельной ответственности обусловлено наличием вины. Поэтому прежде всего необходимо ответить на вопрос, является ли эта вина обязательно умышленной (и тогда в действиях пользователей искусственного интеллекта необходимо выявлять умысел), или она является неосторожной (и тогда достаточно доказать, что пользователь самообучающейся программы проявил, при ее использовании, легкомыслие или небрежность). До сих пор на этот вопрос не было дано однозначного ответа. Думается, что ответ на этот вопрос лежит в следующей плоскости.
Картель есть типичное злоупотребление правом, в связи с чем необходимо определить, является ли данное правонарушение, с точки зрения своего состава, обязательно умышленным, или оно может быть совершено неосторожно. Основоположник теории злоупотребления гражданскими правами В.П. Грибанов не смог дать на него утвердительного ответа.
Он писал, что ««возникает... вопрос, о какой именно форме вины можно говорить при злоупотреблении правом: достаточно ли для признания поведения управомоченного лица злоупотреблением правом любой формы вины, либо злоупотребление правом есть всегда поведение умышленное? Ответ на этот вопрос представляет значительные трудности» [13, с. 63]. Помимо В.П. Грибанова, ответ на этот вопрос пытались дать В.А. Рясенцев (полагавший, что это правонарушение может быть совершено только умышленно («намеренно»), О.Н. Кудрявцев (также полагавший, что злоупотребление может быть совершено лишь преднамеренно) и представители московской школы российского гражданского права, допускавшие злоупотребление «ненамеренное» (по их мнению, «намеренным» злоупотреблением можно признать только одну его разновидность – шикану, поскольку она совершается именно с определённой – вредоносной целью) [14, с. 391-392]. Что же касается второй разновидности злоупотребления – деяния, объективно причиняющего вред (без прямой цели его причинения кому-либо), то оно (по мнению В.С. Ема) может быть совершено и «непреднамеренно»: с косвенным умыслом или по неосторожности [14, с. 392]. Таким образом, современная цивилистическая наука, в отличие от советской школы, допускает возможность картелизации «по неосторожности», что и составляет особенность вины лица, использующего для ценообразования самообучающийся цифровой алгоритм (искусственный интеллект). Однако все эти суждения носят в некоторой мере теоретический характер – с учётом того обстоятельства, что, согласно ст. 401 Гражданского кодекса РФ, ответственность субъектов предпринимательской деятельности наступает независимо от вины (исключая случаи непреодолимой силы).
В то же время необходимо учитывать, что административная ответственность пользователя программы с искусственным интеллектом может наступить лишь при наличии у него умысла, в том числе – косвенного. Неосторожная вина не может быть основанием для возложения на такое лицо административной ответственности по ст. 14.32 КоАП РФ.