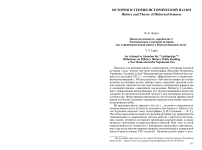Попытка покинуть «архипелаг»? Размышления о военной истории над страницами новой книги о Наполеоновской эпохе
Автор: Лапин В.В.
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: История и теория исторической науки
Статья в выпуске: 3 (77), 2023 года.
Бесплатный доступ
Критический анализ научной монографии Д. И. Горшкова «La garde au feu! Императорская гвардия Наполеона в период отступления 1812 г.: состояние, эффективность и межполковая коммуникация» (Москва, 2022) послужила для автора статьи поводом для размышлений о современном состоянии военной истории. Метафора «архипелаг» использована для обозначения четырех направлений изучения военного прошлого (история войн, униформология, история военной техники, история вооруженных сил в контексте проблем экономической, социальной и политической истории). Эти направления метафорично названы «островами», поскольку они занимают обособленное положение в отношении историографии, которую автор статьи условно называет «прочей». Эти направления опираются на особые научные структуры, специализированные периодические издания, в них мало заметны методологические новшества, которыми увлекалась историческая наука за последнее столетие. Д. И. Горшков во введении своей книги анонсировал новый подход к изучению наполеоновской эпохи и Отечественной войны 1812 г. через всестороннее и скрупулезное исследование отдельного боевого эпизода (сражение под Боровском 25 октября 1812 г.). Кроме того, в его монографии заявлено о намерениях получить обновленные результаты в социокультурной сфере на основе истории вооружений и униформологии. Однако, по мнению автора статьи, попытка выполнить обещания, данные Д. И. Горшковым своим читателям, не удалась. Д. И. Горшков не сумел покинуть «острова». И на то есть серьезные причины.
Отечественная война 1812 г, наполеоновская армия, военная история, униформология, история военной техники, историография, методология истории
Короткий адрес: https://sciup.org/149144337
IDR: 149144337 | DOI: 10.54770/20729286_2023_3_113
Текст научной статьи Попытка покинуть «архипелаг»? Размышления о военной истории над страницами новой книги о Наполеоновской эпохе
An Attempt to Abandon the “Archipelago”? Reflections on Military History While Reading a New Book about the Napoleonic Era
Поводом для размышлений о современном состоянии военной истории стало чтение научной монографии Дмитрия Игоревича Горшкова «La garde au feu! Императорская гвардия Наполеона в период отступления 1812 г: состояние, эффективность и межполковая коммуникация»1. Об актуальности этой книги говорит не только наличие на обложке целого набора таких «паролей» научной и общественной значимости как имя великого императора французов и «великой годины», священной для россиян. Интригует упоминание о межполковой коммуникации, что трудно расценивать иначе как указание на антропологический подход к исследованию военного сообщества. Фокусировка внимания на отступлении французской армии из России усиливает ожидание новизны в изучении эпохи наполеоновских войн.
Во введении автор заявляет, что он «...является сторонником микроисторического взгляда на исторический процесс»1 [Здесь и далее курсивом выделен текст монографии Д. И. Горшкова. —ВЛД. Читателю предлагается книга по военной истории, где применяются традиционные и современные методы работы с корпусом источников, основу которого составляет армейская документация, а также записки участников и современников событий. При этом со всей определенностью говорится о намерении предложить оригинальные ответы на многие важные вопросы политической и социальной жизни Европы начала XIX столетия3. Наличие целой главы4 о мун- дирах и снаряжении как о материале, позволяющем сделать выводы, далеко выходящие за пределы традиционной униформологии, а также отдельного тома с соответствующими иллюстрациями, выглядит заявкой на оригинальное исследование. Выделение сюжетов о лошадях и о вооружении в отдельные параграфы5 вселяет надежду, что разговор не ограничится сведениями о том, чем воевали наполеоновские гвардейцы-кавалеристы, а затронет важные вопросы социальной истории техники.
Сугубо положительные отзывы на книгу опубликовали Сергей Николаевич Искюль, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН6, и Александр Микаберид-зе (Alexander Mikaberidze), профессор университета штата Луизиана в Шривпорте7. Они же и еще пять историков (Л. Л. Ивченко, G. A. Massoni, М. Р. Rey, Т. Sarmant, М. Wink) рекомендовали издательству напечатать труд Д. И. Горшкова8.
Список использованных источников и литературы производит сильное впечатление, поскольку дает представление о колоссальной работе в библиотеках и архивах разных стран9.
Все вышесказанное о книге «Lagarde an feu!...» дает хороший повод для того, чтобы предложить разговор о военной историографии, поскольку анализ ее современного стояния заслуживает отражения в монографии (и даже не в одной), а также обсуждения в формате конференции (и тоже не одной).
* * *
Одна из важных особенностей описания и анализа войн — их связь с межнациональным и межгосударственным соперничеством, что способствует болезненной актуализации ратной истории, различным вольным и невольным искажениям, откровенно тенденциозной трактовке сведений, почерпнутых из исторических источников. Былые вооруженные конфликты — главный питательный резервуар войн памяти, которые пылают по всему миру10.
Военным историкам крайне трудно отступать от комплиментарного освещения действий армии и флота своего отечества потому, что во все времена невозможен был отказ от лозунга «С нами Бог!». Даже неоспоримые неудачи на поле боя, очевидные поражения в войнах преподносились и преподносятся как духовные победы11. Сакрализация воинов табуирует все, что может запятнать их светлый образ. Оборотная сторона этого явления — демонизация противника. Наконец, общество и особенно власть с настороженностью относятся к уклонениям от глорификации отечественного ратного прошлого, что влечет за собой последствия разной степени драматизма для авторов и институций, такое себе позволивших.
Долгое следование традиционным правилам военного истори-описания, воздействие социокультурной обстановки, в которой оно 114
формировалось, привело к тому, что сообщество военных историков в научном мире сформировало пространство, напоминающее обособленный «архипелаг». Он состоит из четырех «островов», первый из которых населен авторами, продолжающими традиции XVIII-XIX столетий (описания войн и отдельных баталий, тексты об организации вооруженных сил, биографии военачальников). Второй «остров» — сообщество специалистов, чье внимание сфокусировано на униформе. Третий «остров» — вотчина историков, которые в своих трудах отразили процесс развития вооружений от бронзовых мечей и кожаных щитов до баллистических ракет и средств радиоэлектронной борьбы. Четвертый «остров» располагается ближе всего «материку» (назовем так сообщество «гражданских» историков). Здесь трудятся авторы, для которых прошлое армии и флота являются исследовательским пространством для решения вопросов экономической, социальной и политической истории. Эта традиция была заложена еще до революции, поддерживалась (но без процветания) в советское время и заметно оживилась в конце 1980-х гг.
Сочинения авторов первого «острова» иногда в позапрошлом веке иронично называли «кто куда пошел», намекая на частые упоминания в текстах о передвижениях войск. В публикации второй трети XIX в. о Русско-турецкой войне 1768-1774 гг. более половины объема той части, которая освещает боевые действия, уделено маневрам противоборствующих сторон12. В напечатанной в 1956 г. монографии о Крымской войне две трети страниц — изложенные академическим языком донесения военачальников об отступлениях-наступлениях, о фланговых и фронтальных ударах13. В 2019 г. спустя два столетия (!) после окончания Русско-турецкой войны 1711— 1713 гг. вышла первая посвященная ей монография14. В этом солидном труде (448 стр.) около половины текста-все те же описания действий военачальников разных рангов. Еще около трети объема книги — «кто что кому сказал»: повествование о дипломатических маневрах воюющих и прочих заинтересованных сторон.
Статьи и книги, где на основе рапортов, приказов и мемуаров (зачастую с минимальной критикой источников) «восстанавливается» картина боев и походов, ежегодно выходят на многих языках. Они методологически опираются на идею, которую четко оформил в своем постулате известный столп позитивизма Леопольд фон Ранке: «... показать, как все происходило на самом деле». При этом их авторы не сомневаются в возможности такого действия.
Работы о былых войнах и битвах обычно построены по одной схеме. Они открываются обзором трудов предшественников, цель которого — подвести читателя к мысли о недостаточной изученности вопроса либо об ошибочности ранее созданной картины. Затем следует перечисление источников. Обязательным считается указание на состав и численность войск с обеих сторон. Далее представлено само сражение, во многом напоминающее рассказ о театральной постановке (декорации, акты, картины, экспозиция, кульминация, развязка). Прологом к этому описанию выступает характеристика предшествующей ситуации на театре военных действий, а эпилогом — последствия битвы и дальнейший ход кампании. Почти обязательный элемент — дипломатические турниры, предшествовавшие войне и сопровождавшие процесс мирных переговоров. Поскольку число убитых, раненых и пленных являлось важным критерием успеха (неудачи), а также признаком важности и героичности конкретного эпизода, вопросу о потерях уделяется большое внимание вплоть до вынесения разговора об этом в отдельную главу или параграф. Финальная часть носит оценочный характер. В ней историк, следующий указанным канонам, анализирует причины и последствия действий обеих сторон, качество управления войсками, боеспособность последних, а также факторы, оказавшие существенное и второстепенное воздействие на произошедшее.
На эту заключительную часть резонно обратить особое внимание. Военная история составляла и до сих пор составляет обязательный предмет в программах профессиональной подготовки офицеров. Американский историк Д. Стейнберг даже включил чрезмерное внимание к военной истории в число изъянов подготовки офицеров российского Генерального штаба перед Первой мировой войной15. Поэтому дидактический уклон сочинений о былых битвах предполагает оценку событий в рамках дихотомии «правильно-неправильно» при минимальном использовании полутонов со всеми изъянами такой палитры. Созданный по вышеупомянутой схеме нарратив получается строго обрамленным с точки зрения проблематики, тематики, используемых источников, методики и целевой аудитории.
Один из популярных жанров на этом «острове» — биографии военачальников разных рангов и эпох, а также людей, совершивших подвиги на поле боя. Подавляющее большинство публикаций такого рода удивительно похожи на Жития святых. Начинаются они обычно словами о предопределенности будущих великих и славных деяний (тяга к знаниям, благонравие, почитание старших, укрепление телес, разные знамения). Поскольку среди канонизированных святых встречалось немало тех, кто до своей метаморфозы был замечен в разных грехах, в биографиях военачальников «для контраста» также нередко упоминаются и даже оттеняются случаи их девиантного поведения в молодости. А вот после приобретения статуса святого (у героев и военачальников — после событий, обеспечивших им место в энциклопедиях), все, что могло запятнать их светлый образ, было строго табуировано. Если биограф испытывал дефицит сведений о личности своего героя, происходила более или менее очевидная подмена жизнеописания батальными картинами, то есть той же историей боевых действий.
Специалисты другого «острова» (знатоки униформы) накопили колоссальный материал о военном мундире16. Их труды позволяют 116
по мундиру назвать имя изображенного человека, определить, где и когда он служил, даже выявить ошибки художника. Без их внимания не остались не только тысячи изменений в одежде и экипировке, но также технологии изготовления тканей и аксессуаров, организация пошива и распределения одежды, обуви и головных уборов17. Без знаний и колоссального эвристического труда специалистов по уни-формологии, фалеристике и вексиллологии невозможно представить феномен военно-исторической реконструкции. Этот вид коммеморативной практики занимает сегодня во всем мире такое видное место в формировании представлений о прошлом прежде всего благодаря высочайшему уровню правдоподобия. А правдоподобие достигается как раз тем, что зритель видит не опереточные костюмы и игрушечное оружие, а предметы, практически неотличимые от оригиналов. В процессе изучения вопросов, связанных с экипировкой, специалисты в области мундироведения демонстрируют виртуозные навыки критики источников и глубокое знание работы военноадминистративного аппарата различных эпох. Хороший пример того — статья Александра Владимировича Кибовского о складывании легенды, касающейся происхождения одной из деталей экипировки Псковского кирасирского полка18.
Георгий Соломонович Бабаев, первый отечественный теоретик униформологии, еще в 1912 г. высказался об огромном информационном значении мундира, который «...для любящего и знающего устройство и историю родного войска — много говорящая страница этой истории»19. Но это высказывание, звучащее призывом к изучению униформы как языка, на котором изъяснялся военный мир, не получило должного отклика. Прошло чуть менее века, и таким же призывом фактически являются слова Н. Ю. Ефимова, защитившего в 2010 г. кандидатскую диссертацию по философии на тему «Военная униформология как социокультурный феномен: содержание и тенденции развития: социально-философский анализ»: «На повестку дня встает проблема философского осмысления и формирования методологических подходов к исследованию военной униформологии как активно развивающейся отрасли, рассматриваемой в качестве социокультурного феномена»20.
Во время написания настоящей статьи по запросам на русском языке «мундир семиотика» и «униформа семиотика» получены ссылки на несколько десятков публикаций21. При этом все они касались культурного кода мужской цивильной одежды. Аналогичный запрос во франкоязычном сегменте Интернета мгновенно дал сведения о статьях, которые рассматривают мундир как средство формирования коллективной идентичности и механизм складывания «мужественности»22.
В океане литературы о военной одежде нам не удалось обнаружить труда, где мундир был бы представлен как текст, предлагались бы интерпретации бесчисленных изменений фасона, цвета, правил ношения и т.д. Хотелось бы найти что-то похожее на словарь этих символов для перевода их на «человеческий язык» и понимания заложенного в них смысла.
Между тем, не только униформа является полем для подобных исследований, поскольку армия с давних времен является вместилищем особой субкультуры. Крайне редко элементы последней становятся предметом внимания профессиональных культурологов. При неисчислимости трудов о церковном и светском зодчестве поиск работ об архитектуре казармы или об организации пространства летнего военного лагеря займет много времени и принесет весьма скромные результаты. И все вышесказанное об униформе — аргументы в пользу «островного» положения мундироведения. «Гражданские» культурологи и антропологи робеют изучать мундир из-за невысокой компетентности в этой очень специфической области знания, а знатоки истории военной одежды, видимо, не считают важным и нужным делом изменение своих традиционных методов работы.
Некоторые подвижки в отечественной историографии в этой сфере наблюдаются, но все равно ситуация напоминает поговорку о первых ласточках и приходе весны. В 2021 г. вышла в свет монография Беллы Львовны Шапиро «Русский всадник в парадигме власти», где немало страниц посвящено тому, как много важного можно увидеть в истории России через «военную призму»23. Однако среди выходящих работ по униформологии доминируют работы «классического» характера24.
На третьем «острове» можно получить исчерпывающий ответ об отличии одного предмета, предназначенного для нападения или защиты, от другого, изготовленного с указанными целями тысячу или пять лет назад. Историки этой специальности могут поведать об изобретателях и мастерах, об эффективности применения мечей, мушкетов, пушек, танков и боевых кораблей. Этим «островитянам» очень многим обязаны те же исторические реконструкторы, а также создатели кинофильмов «о войне», относящиеся с уважением к правдоподобности и тщательной проработке деталей. Развитие боевой техники в этом сегменте военной истории рассматривается в основном вне контекста изменений в социокультурной, экономической, политической сфере. При наличии многих сотен специалистов в области истории вооружений, в отечественной историографии нет работ такого характера, как монография американца Уильяма Мак-Нила (William Hardy McNeill), посвященная «анализу изменений в балансе между технологией, вооруженными силами и обществом»25. В этой книге показано, как появление боевых колесниц изменило историю тех стран, где природные условия сделали эффективным применение этого «аристократического» оружия эпохи бронзы. Распространение железа привело к своеобразной демократизации военного дала, многократно снизив элитарность действенного холодного оружия. При этом Мак-Нил демонстрирует, как трансформации в экономике, 118
в социальном и политическом устройстве, в развитии государственных институтов влияют на развитие военных технологий, на правила ведения войны.
Армия и флот всегда являлись драйверами научно-технического прогресса, важным фактором экономических, социальных и политических процессов. Можно с уверенностью сказать, что эпохальные перемены в военном деле проявлялись во всех сферах жизни государства и общества. Одновременно трансформации экономического, политического и социального устройства, «революции в умах» оказывали огромное влияние на состояние и образ действий вооруженных сил.
Изучение взаимовлияния армии, государства и общества в дореволюционную эпоху представлено работами как военных профессионалов, так и гражданских лиц. Известный финансист И. С. Блиох свой пророческий труд о воздействии масштабных вооруженных конфликтов посвятил войне будущей, но опирался на историю европейских столкновений XIX столетия26. А. Ф. Редигер, занимавший в 1905-1909 гг. пост военного министра, в своих книгах увязывал вопросы военной организации империи с социокультурными реалиями эпохи27. В советское время особо следует отметить труды Петра Андреевича Зайончковского28.
На изучение вооруженных сил как важнейшей отрасли государственного хозяйства, как социального регулятора, как механизма имперской интеграции, как механизма модернизации государственного аппарата и общества большое негативное влияние оказали идеологические практики второй половины 1930-х— 1980-х гг. Другими словами, «обитателям четвертого острова» нужно было действовать с оглядкой на возможные последствия своих выводов. Как известно, до 1934 г. самые жесткие слова в адрес «проклятого прошлого» были символической копеечкой в символическую копилочку, содержание которой помогало уцелеть в разного рода «чистках». Когда же историю признали эффективным средством идеологической борьбы, неосторожные высказывания могли иметь самые трагические последствия, особенно если это касалось «славного ратного прошлого русского народа». После 1953 г. идеологические промахи перестали конвертироваться в тяжкие преступления, но в эпоху Холодной войны к прежним ограничениям и самоограничениям добавились последствия борьбы с «буржуазными фальсификаторами».
За рубежом в 1960-е — 1980-е гг. вооруженным силам как дореволюционной, так и советской России были посвящены десятки трудов, которые принято называть фундаментальными29. Число статей трудно назвать даже приблизительно. Западные авторы до начала 1990-х гг. испытывали большие затруднения при работе в архивах, но компенсировали это высоким профессионализмом в работе с доступными источниками.
Перед советскими историками встал трудный выбор. Получение результатов, схожих с выводами зарубежных специалистов, грозил обвинениями в «солидарности» с идеологическими противниками, в соавторстве с «буржуазными фальсификаторами». Приветствовались публикации, в первых строках которых звенели слова о непримиримой борьбе с теми, кто искажает историю, но далеко не все в те годы охотно брались за подобную работу.
Взаимной изоляции военных и «остальных» историков способствует существование особых исследовательских учреждений и специализированных периодических изданий с соответствующими источниками финансирования. В России — Институт военной истории Министерства обороны, издающий «Военно-исторический журнал». В Германии — Военно-историческое бюро исследований (Militargeschichtliches Forschungsamt), издающий «Военноисторические известия» (“Militargeschichtliche Mitteilungen”). Аналогичные центры и периодические издания имеются в Великобритании, Франции и США.
Обособленность военных историков — интернациональное явление. Французы используют для обозначения работ на военные темы термин histoire militaire, причем традиционно это относится к той сфере, где трудится много лиц, связанных с вооруженными силами. В последние десятилетия заметно расширение рамок исследований в области histoire militaire за счет решительного вторжения в антропологию, социальную историю и т.д. В таких случаях во Франции используются выражения histoire de Farmee и histoire du fait militaire. Чтобы отгородиться от традиционной истории баталий, сражений и походов, последнюю с заметной иронией именуют histoire-batailles. Схожее разделение мы видим в англоязычной литературе: military history — определение общего характера, a the history of warfare — особая область знания для отставных военных и лиц, для кого погружение в ратные были и небыли — особая форма самореализации и пролонгации детских игр с пластмассовым и деревянным оружием.
В германоязычной традиции существует разделение на Kriegsgeschichte и Militargeschichte. В первом случае основное внимание уделяется боевым практикам, полководцам, фронтовым событиям, технике, трансформациям в области военной мысли. Во втором случае поиск ответов на важные вопросы социальной, экономической и политической истории ведется на основе анализа развития вооруженных сил (организация, комплектование, материальное обеспечение, обучение, воспитание и т.д.).
В военной историографии большое распространение получили труды, совмещающие в себе в себе признаки исторического сочинения и мемуаров. Так, в отечественной историографии Венгерского похода 1848 г. среди главных авторов особое место занимают его участники: П. В. Алабин, М. И. Дараган, А. А. Непокойчицкий — И. И. Ореус30. Не вызывает сомнения колоссальное влияние авторов-участников боевых действий с французами на складывание нарратива 120
об Отечественной войне 1812 г. Аналогичная ситуация — в литературе о Кавказской и Крымской войнах. Создатели канонической истории участия СССР во Второй мировой войне отчасти были ее непосредственными участниками, отчасти современниками или детьми воинов-победителей, впитавших в себя рассказы фронтовиков.
Описание вооруженных конфликтов имеет множество черт так называемой дисциплинарной историографии, когда картина прошлого формируется в парадигме особой субкультуры, так как большинство авторов (и целевой аудитории) являются ее носителями. Кроме того, ряд особенностей вооруженных сил (кастовость офицерского состава, элитарность) позволяют говорить об истории армии как об истории корпораций, созданной в основном усилиями ее членов. Историю университетов создавали и создают выпускники и преподаватели этих (или других) вузов, история медицины во многом написана теми же руками, которые выписывали рецепты. В историю техники огромный вклад внесли специалисты соответствующих отраслей. Но во всех этих случаях есть крайне важное отличие от мира военной историографии: неизмеримо большее число авторов не были так тесно связаны с предметом своих наблюдений и располагали большими возможностями для саморефлексии.
Содержание «Военно-исторического журнала» подтверждает метафору «архипелага». Даже без статистического занудства по размерам рубрик и их объему четко видны контуры редакционной политики. В этом издании публикации, которые могут быть интересны «гражданским» историкам, составляют откровенное меньшинство, что, впрочем, вполне оправдывается целями издания. Кроме «Военно-исторического журнала» различные стороны ратного прошлого освещаются еще в нескольких специальных периодических изданиях. В 1991 г. начал выходить иллюстрированный журнал «Цейхгауз» (с 2008 г. — «Старый Цейхгауз»), число номеров которого перевалило за сотню. Это уникальное профильное изданием по униформологии, фалеристике и вексиллологии на постсоветском пространстве и в Восточной Европе. С 1994 г. напечатано более 20 номеров военно-исторического журнала «Новый часовой», который принял своеобразную эстафету у журнала «Часовой», издававшегося в эмиграции. Регулярно выходят сборники научно-популярных статей «Кортик» с говорящим подзаголовком «Флот. История. Люди». Материалы по истории военно-морских сил публикуются в старейшем отечественном журнале «Морской сборник». Статьи на военноисторические темы занимают заметное место на страницах журнала «Родина», включенного, как и «Военно-исторический журнал», в список изданий, где публикации приносят авторам очки, набор которых является непременным условием движения к защите кандидатских и докторских диссертаций. Нельзя не упомянуть о книжных сериях, где военные историки являются желанными авторами: «Военные тайны XX века», «Военно-историческая библиотека», «Военно- исторические книги», «Военно-историческая библиотека АСТ» и т. д.
Обособленность авторов, пишущих о былых войнах и сражениях, проявилась в отстраненности от всех перемен в подходах к изучению прошлого, которые происходили за последнее столетие. Они не посещали «школу Анналов», прошли мимо лингвистического поворота, их не увлекла ни микроистория, ни клиометрика, ни методы исторической антропологии, ни акторно-сетевая теория и прочее. Обитатели острова «Униформологня» традиционно игнорируют семантику, хотя язык военной одежды и аксессуаров выглядит гораздо богаче, чем речь одеяний людей штатских. В публикациях об истории вооружений не заметно влияние того, что уже довольно давно во всем мире активно развивается социальная история техники.
Игнорирование перемен за периметром их специализации никоим образом не сказалось на продуктивности и научном комфорте специалистов в области изучения войн и ратного искусства. Для этого достаточно взглянуть в библиографические указатели, где соответствующие разделы пополняются с завидной скоростью.
* * *
Еще одна важная черта военно-исторического сообщества — слабое внимание к изучению материалов, на основе которых создаются труды о боях и походах. Информационный запрос «военноисторическое источниковедение» отсылает к труду Любомира Григорьевича Бескровного, вышедшему шестьдесят шесть лет назад (!) и к тому же, мягко говоря, не перегруженному аналитикой31.
В «Военно-историческом журнале» за последние три десятилетия удалось найти ничтожное количество публикаций, посвященных историографии, источниковедению или методике изучения военной истории. В советскую эпоху была та же картина. В декабрьском номере этого издания за 1976 г. есть целый раздел «историография и источниковедение», где на пяти страницах перечислены публикации разного характера, из которых ни одну нельзя признать для этого раздела профильной. Создается впечатление, что произошла подмена понятий «историография» и «библиография», поскольку раздел знакомит читателя с новинками научной и научно-популярной литературы. В «Военно-историческом журнале» в последние два десятилетия есть специальная рубрика, но, во-первых, она заметно уступает по числу публикаций и по объемам другим разделам. Во-вторых, подавляющее большинство даже таких редких статей не относятся к жанру источниковедческих, то есть изучающих какой-то вид материалов, или корпус документов, как это делают, скажем, специалисты по летописанию, по мемуаристике, по частным актам и т.д. Публикации в «Военно-историческом журнале» имеют характер очень полезных «лоций» в море архивных и опубликованных документов. Они ориентируют потенциальных исследователей в поис- ках нужных им сведений, но не содержат анализа этих материалов, указаний на особенности отражения действительности32.
Трудно представить профессионального историка, который не осознает, что мемуары победителей это — претензии на долю огромного символического капитала, тогда как воспоминания побежденных — вариации личного и корпоративного самооправдания. Наградные документы составлялись не для того, чтобы историки по ним «восстанавливали картину», а чтобы конкретный офицер получил орден или был повышен в чине. Сложнейшим источником является официальная документация (рапорты и приказы всех уровней, хозяйственные, административные и судебные материалы). Здесь уместно привести слова великого военного историка и теоретика Александра Андреевича Свечина: «Во все времена встречалось лишь небольшое число людей, способных точно наблюдать боевые явления; между показаниями очевидцев постоянно наблюдаются крупные противоречия; а тот ворох документов, который оставляет война, отражает по преимуществу намерения начальников...»33. Тем не менее, при всем профессионализме и эрудиции авторов, в монографиях и книгах крайне редко критика источников выходит за рамки сравнения сведений из разных документов или обсуждения явных несообразностей.
В уже упоминавшейся фундаментальной монографии В. А. Артамонова о Русско-турецкой войне 1711-1713 гг. источникам уделено всего пять страниц, где нет ни одного замечания аналитического характера34. Более того, этот автор полагает, что «.. .не всем архивным документам можно доверять в равной мере. В переписках должностных лиц встречаются фантазии, сознательное введение в заблуждение адресатов, похвальба и нелепые слухи»35. Вероятно, до уважаемого исследователя не долетела крылатая фраза: «Правда — первая жертва войны».
Что же касается недоверия к источникам, то оно включено в круг профессиональных обязанностей историка-профессионала. Косвенным, но весомым свидетельством того, что слабое внимание к источникам в работах по военной истории не считается большим грехом, служит положительная и комплиментарная рецензия на книгу В. А. Артамонова в «Петербургском историческом журнале», включенном в Перечень ВАК. В указанной рецензии работа с разнообразными опубликованными и архивными материалами представлена как особо сильная сторона монографии36.
В аналитической статье доктора исторических наук Владимира Георгиевича Кикнадзе среди множества критических замечаний в адрес современной отечественной военно-исторической науки не обнаружены претензии по поводу недостаточного внимания к «профильной» историографии и источникам37. Академик РАН Евгений Петрович Челышев на страницах «Независимого военного обозрения» выступил со статьей, в которой заявил о необходимости срочных мер для выведения военно-исторической науки России из кризисного состояния. При этом авторитетный военный историк (член редакционных комиссий многотомных трудов «Великая Отечественная война 1941-1945 годов» и «Первая мировая война 1914-1918 годов») так же ни слова не сказал о проблемах работы с источниками и историографией в трудах о ратном прошлом, о повышении внимания к методике исследований38.
Длительное существование такой огромной лакуны в источниковедении рождает мысль о том, что она не может быть следствием каких-то случайностей. Здесь велика роль вышеупомянутой сакраль-ности многих составляющих военной истории. В этой связи призыв препарировать источники о войнах и военном деле так, как это делают уже третье столетие специалисты в других областях исторической науки, очень напоминают предложения исследовать чудотворные иконы и мощи святых, используя весь арсенал современных технических средств. Осторожные полемические замечания или очень заметные «умолчания» и «исключения» при публикации источников по истории военного искусства, напоминают дискуссии теологов, в которых признание запретных тем и приемов являются главнейшим условием дискуссии, дабы не было впадения в ересь и богохульство.
Схожая картина наблюдается и в разделах, касающихся историографии. В них незаметны попытки проанализировать ситуацию в области военной истории через призму изменения методик и подходов. В лучшем случае отмечается самоочевидное: разногласие историков на основе несовпадения политических взглядов. О влиянии законов мифологии мало кто рискует говорить из-за преобладающего представления, что миф — один из синонимов собрания небылиц.
Библиография работ об участии России в вооруженных конфликтах, анализ коммеморации этих конфликтов (памятники, публикации документов, отражение в фольклоре, живописи, драматургии, литературе и т.д.) формирует очень занятную картину.
Совершенно очевидно, что среди войн имперского периода заметно выделяется группа «забытых». К ним можно смело причислить Русско-турецкие войны 1711-1713, 1735-1739, 1806-1812 гг, Русско-шведские войны 1741-1743 и 1788-1790 гг, Русско-австрийскую войну 1809 г, Русско-персидскую войну 1804-1813 гг, Русско-французские войны 1805 и 1806-1807 гг, все кампании с участием русских войск в Польше в XVIII столетии. А еще были так называемые Рейнские походы 1735 и 1748 гг, ставшие формой участия России соответственно в войнах за польское и австрийское наследства. Из перечисленных столкновений забвение только трех (с турками в 1711-1713 и с французами в 1805 и в 1806-1807 гг.) легко объясняется понятным нежеланием фокусировать внимание на поражениях. Но остальные столкновения завершались победами!
Этот парадокс требует основательного изучения, но одна из причин сложившейся ситуации лежит на поверхности. «Забытые» войны по той или иной причине оказывались невостребованными при кон- струировании отечественного военно-исторического мифа. Согласно одной из глав этого мифа в Балтику Россию раз и навсегда вывел Петр Великий победой в Северной войне 1700-1721 гг. На Черном море то же самое проделала Екатерина Великая, завершившая в войнах с Турцией 1768-1774 и 1787-1791 гг. дело, начатое ее легендарным предком (Азовские походы 1695-1696 гг). Все прочие сражения и походы, даже победоносные, вносят ненужную сложность и противоречивость в эту идеальную схему и потому оказываются «не востребованными».
Завершая рассуждения о характере и причинах обособленности военной истории, следует заметить, что и «гражданские» историки не особо стремятся снаружи пересечь ментальную и научноорганизационную границу обозначенного «архипелага». Предлагаемое объяснение такого явления — обеспеченность материалом вне круга военно-исторических сюжетов и определенная робость перед вторжением в чужое исследовательское пространство.
Не следует сбрасывать со счетов и силу традиции. Речь идет о существовании в России противостояния государства и общества, когда вооруженные силы олицетворяли первое, тогда как авторы, не состоявшие на казенном довольствии, причисляли себя ко второму. Потому не только «мундироведение», интерес к которому воспринимался как «скалозубовщина», но и другие направления изучения армии откровенно не приветствовались в научных кругах второй половины XIX — начала XX вв39.
Таким образом, образование «военно-исторического архипелага» обусловлено реальностями развития отечественной науки. Вооруженные силы с давних времен являются вместилищем особой субкультуры, но ее изучение при всей его интенсивности и глубине происходит внутри жестких рамок, без интенсивных контактов с учеными других специализаций.
* * *
Приведенные выше рассуждения о ситуации, сложившейся в современной отечественной военной историографии, позволяют более основательно подойти к оценке монографии Д. И. Горшкова.
В этом труде видны явные признаки того, что автор имеет опыт длительного и продуктивного «проживания» на всех четырех названных «островах». Причиной, побудившей обратиться к «поднимаемой теме», Горшков называет «...необходимость нового исследовательского взгляда на Императорскую Гвардию Наполеона как на опору режима в период апогея его существования (1811-1812 гг.) и, в частности, определения эффективности гвардии на поле боя, ее функционирования в условиях начала слома 1-й Империи, в период Русской кампании 1812 г. и в условиях отступления»40. Далее следуют указания на наличие множества «лакун и белых пятен» в изучении похода Наполеона в России, на то, что действия гвардии в период отступления освещены «слабо и крайне поверхностно». Предполагается также, что исследование поспособствует «пересмотру романтизированного образа самой Императорской Гвардии, мифов о ней», позволит изменить фокус зрения на события того времени, поскольку будет минимизировано влияние фигуры Наполеона, которая «заслоняет собою всё»41.
Для решения вышеперечисленных задач автор выбрал один из эпизодов кампании 1812 г. — «во многом забытый сегодня бой под Боровском 25 октября 1812 г.»42 между двумя полками наполеоновской гвардейской кавалерии и четырьмя полками донских казаков. Внимание фокусируется не столько на событиях этого дня, сколько на ее участниках с французской стороны. При объяснении «выбора этого объекта исследования» [То есть кавалерийской бригады Кольбера в бою под Боровском. — ВЛД Д. И. Горшков «перефразирует положения» известных специалистов в области микроистории К. Гинзбурга и К. Пони, что «часто одно событие, не всегда необычное, может оказаться более красноречивым, чем совокупность всех событий»43.
Содержание «Вступления»44 в книге Д. И. Горшкова выглядит намерением либо отказаться от окаменевших схем и приемов описания сражений, либо наполнить эти схемы новыми смыслами. Однако построение и содержание первой половины книги45 заставляет в том усомниться, поскольку главы 1-5 полностью соответствуют вышеупомянутым правилам структурирования военно-исторического труда, которые не меняются уже пару столетий. Это особенно четко видно в оглавлении46. Описание событий 25 октября 1812 г. выполнено по традиционным лекалам, описанным нами выше, и даже заканчивается параграфом с характерным дидактическим названием «Успехи и ошибки сторон»41.
Ни в одной из частей книги нет ни полемики, ни солидарности с авторами книг и статей о Наполеоновской эпохе, о Наполеоновской гвардии и прочем. Если такое встречается, расплывчатость выражений лишает возможности определить позиции сторон. Сноски проставлены таким образом, что читатель затрудняется понять, с чем он имеет дело: с мнением автора, указанного в подстрочнике, или с мнением самого Д. И. Горшкова. В результате текст монографии оказывается изолированным от историографического контекста, что автоматически лишает смысла любые рассуждения о новизне, о ликвидации «лакун и белых пятен». Исключение составляют критические замечания в адрес А. И. Сапожникова48, автора монографии о действиях казаков в 1812 г49. Но и в этом случае речь идет не о том, ради чего по уверениям автора, создавалась эта монография. Параграф «историография»50 целиком посвящен доказательству «забвения» боя под Боровском.
Смущает отсутствие в тексте монографии упоминания о работах в области микроистории, хотя именно таковая провозглашается главным направлением, которого придерживался автор. Успешным примером использования микроисторического подхода в военной истории называется работа американского историка Джорджа Р. Стюарта, а неуспешной — диссертация Владимира Николаевича Земцова51. При этом из-за отсутствия пояснений читатель остается только поверить в обоснованности таких безапелляционных оценок. Создается даже впечатление, что Д. И. Горшков представляет микроисторию как некое монолитное учение.
Двадцать страниц монографии52 посвящены источникам. При этом большая часть текста является по своей сути комментариями к сноскам, что, к сожалению, часто встречается в научных трудах. При этом автор уклонился от объяснения собственной позиции в отношении материалов разного характера. Настораживает намерение «воссоздать объективную и всестороннюю картину боя»53, для чего «учитывались» документы обеих сторон. Но «французское» и «российское» видение, отразившееся в источниках, не более чем материал для выстраивания двух версий, априори отличных одна от другой. Если под «всесторонней и объективной картиной» автор понимает наиболее приемлемую версию, то чем он руководствовался, «выбирая ракурс и смешивая краски»? Ответа на этот вопрос о принципах работы с различными материалами в этом разделе (и в остальных главах) обнаружить не удалось. Сетования на неполноту источников не компенсируют отсутствие информации о трудностях, с которыми столкнулся автор при разработке различных сюжетов.
Двадцать страниц54 уделено аргументам, подтверждающим и без того бесспорный тезис: бой под Боровском 25 октября 1812 г. «... практически не нашел специального освещения в историографии, находясь на периферии исторического знания». Такая настойчивость автора монографии также вызывает некоторое удивление. Военная история — часть истории политической, где существуют прочные традиции выделения главного и второстепенного. Классическая схема описания кампаний, с ее концентрацией внимания на так называемых ключевых событиях, позволяет уделять отдельным боевым эпизодам только несколько строк, чтобы избежать чрезмерного объема текста.
Число участников сражения, его влияние на ход кампании напрямую связано с количеством и разнообразием свидетельств о произошедшем. Десятки частей, побывавших в бою — десятки рапортов, тысячи потенциальных мемуаристов — некоторое количество записок. То, что случилось 25 октября 1812 г. под Боровском, могло остаться отраженным в нескольких строках рапорта, если бы один из участников этого кавалерийского «дела», не написал о том в своих воспоминаниях. Здесь уместно добавить, что главной ударной силой французской Гвардии была инфантерия, а образ наполеоновского гвардейца — фигура пешего гренадера в знаменитой медве- жьей шапке. Поэтому претензия на пересмотр представлений о роли гвардии через призму кавалерийского боя требует дополнительных обоснований.
Д. И. Горшков представляет бой под Боровском незаслуженно забытым. Рассуждения о «несправедливости» забвения — дело в принципе абсурдное, поскольку не существует универсальных принципов ранжирования событий и фигур по их исторической значимости. Единственным, хотя и не идеальным способом поиска консенсуса может послужить обращение к справочникам. Упоминание о чем-либо или о ком-либо в универсальных и специализированных энциклопедиях является бесспорным признанием большой символической ценности этих событий и персон для социокультурной среды, в которой эти справочники создавались. Более того, можно увидеть своеобразную иерархию (наличие специальной статьи или упоминание в контексте, объем текста, наличие или отсутствие библиографии и прочее).
В универсальных и специальных отечественных энциклопедиях (Большая советская энциклопедия, Советская историческая энциклопедия, Советская военная энциклопедия и т.д.) бой под Боровском вообще не упоминается. В тематических энциклопедиях, редакционный состав которых в своей квалификации не вызывает ни малейшего сомнения, бой под Боровском упоминается наравне с множеством подобных стычек. Здесь стоит посмотреть, как выглядит большинство страниц монографии Д. И. Горшкова, где сноски по объему конкурируют с авторским текстом: в первой российской энциклопедии, посвященной Отечественной войне 1812 г, в статье «Боровск» (автор — Н. П. Лошкарева), говорится о формировании ополчения на территории уезда, о бедствиях жителей, о размещении в городе французских войск, о действиях партизанских отрядов И. С. Дорохова, А. Н. Сеславина и А. С. Фигнера. О событиях 13 (25) октября сказано буквально следующее: «...четыре казачьих полка под команд, ген.-майора Д. Е. Кутейникова совершили успешный набег на Боровскую дорогу и приблизились к городу»55. В этой же энциклопедии в статье о генерале Дмитрии Ефимовиче Кутейнико-ве (Кутейников 2-й) упомянуто о его участии в боях под Боровском, но в перечислении других «дел» (при Колоцком монастыре, Вязьме, Дорогобуже, Смоленске, Вильно, Ковно)56. В статье «Гвардейская кавалерия Великой армии» (автор — П. В. Суслов) упоминается, что элитные конники французов «...вели активные действия против казачьих отрядов на Боровской дороге»57. При подготовке трехтомного варианта энциклопедии, авторский коллектив не изменил отношения к событиям 13 (25) октября, сохранив за ними статус «незначительных»58.
В работах краеведов наблюдается извинительная и понятная тенденция к преувеличению исторической значимости событий, связанных с историей определенного региона. Но умолчание о бое в «Ка- 128
лужской энциклопедии» — свидетельство о том, что столкновение гвардейцев Наполеона и казаков в тот день не стало событием, заслуживающим внимания даже среди авторов, особо трепетно относящихся ко всему, что может привязать их малую родину к эпохальным событиям в жизни России (статья «Боровск»)59.
Вся 2-я глава представляет собой изложение кратких сведений об офицерах бригады Кольбера, отрывочные данные и рассуждения о состоянии лошадей бригады60. Завершается глава совершенно не обоснованным выводом о том, что бригада была «полноценным боевым формированием».
3-я глава61 — подробный рассказ о столкновении шволежеров с казаками. После подсчетов потерь французов62 внезапно следует фрагмент с элементами историософии и рассуждений о применимости различных методов исследования63. В этой главе Д. И. Горшков вступает в принципиальный спор с «некоторыми современными российскими авторами», а конкретно — с Николаем Владимировичем Промысловым, который, по нашему мнению, обоснованно поставил под сомнение целесообразность бесконечных дискуссий о людских потерях64. При этом никаких убедительных контраргументов Д. И. Горшкова читатель не видит.
Только в самом конце 5-й главы «Итоги боя», на 301-й странице, автор книги вспоминает о межполковой коммуникации и задается вопросом об эффективности конкуренции полков гвардии на поле боя. Внимание фокусируется на очевидном негативном отношении поляков к голландцам, и на этой шаткой основе делаются далеко идущие выводы.
Не является изобретением пороха то, что «другой» («чужой») — не обязательно непримиримый и смертельный враг. Эту роль могут сыграть союзники, представители других родов и видов войск, фронтовые соседи, оголившие фланг, то есть все, кому в конкретных обстоятельствах отказывали в общей идентичности. Конкуренция между частями (в том числе между разноплеменными) — хорошо известная, существенная, но далеко не самая важная составляющая мотивации, особенно при отступлении, когда моральное состояние солдат и офицеров действительно оставляет желать лучшего. Об отношениях поляков и голландцев, служивших Наполеону, говорится и в главах 6-й и 7-й65, но без того, чтобы читатель нашел ответ на поставленные самим же автором вопросы.
Далее следует просопографическое исследование полков шволежеров-лансьеров, характеристика конского состава этих частей, очерк применения пики в бою, подробнейшее описание пьяного дебоша польских кавалеристов в Суассоне в 1811 г. Вывод главы 7-й66: вся гвардейская кавалерия, включая бригаду Кольбера в конце октября «...была все еще мощной боевой единицей», не испытывала «процесса деградации и распада, включая «деградацию коммуникации на межполковом уровне». В чем состояла деградация, как определялась мощь бригады, что понимается под долгожданной для читателя межполковой коммуникацией — ответы на эти вопросы обнаружить не удается.
8-я, самая пространная глава67 посвящена униформе, что, по мнению автора монографии «...позволяетреконструировать коллективный портрет обоих полков»68. Однако текст главы ни на шаг не приближает к разрешению уже в который раз упомянутых задач исследования, поскольку представляет собой традиционное скрупулезное описание одежды шволежеров.
В книге содержится немало фрагментов, значение которых для работы совершенно непонятно без пояснений автора (а таковые отсутствуют). Один из них — повествование «ознакомительного» характера о корпусе инженеров-географов и о топографическом бюро Великой армии69. Другой пример — предложение использовать археологические данные, чтобы «более точно определить места соприкосновения» противоборствующих сторон и «проследить движение войск»10. Напомним, что в бою под Боровском участвовала только кавалерия, кроме отпечатков копыт и конского помета других материальных следов не оставляющая.
В выводах преобладает наукообразная констатация очевидного (бой 25 октября у Боровска был самым значительным «делом» бригады Кольбера в кампании 1812 г; этот боевой эпизод не стал предметом специального исследования; русская иррегулярная кавалерия на данном этапе превосходила французскую и т.п.)71.
Другие выводы заслуживают эпитета «неожиданные», поскольку нам не удалось обнаружить аргументы в их пользу. Одно из положений «заключения» звучит следующим образом: «Микроисторический взгляд на материал и само событие свел на нет традиционные, укрепившееся в историографии положения о деградации коммуникации полков Императорской Гвардии»11. Что понимает автор монографии под «коммуникацией полков», в чем проявлялась «деградация», кто и когда закрепил в историографии и сделал традиционными представления о таковой — загадка для читателя. Не меньшей загадкой остается утверждение о «заполнении имеющихся пробелов, возникновение которых характерно при анализе второго этапа Кампании 1812 г.»13. До этого ни один конкретный «пробел» не упоминался. Д. И. Горшков там же утверждает, что ему «удалось фактически “открыть ” человека прошлого»14. Такое открытие действительно является целью тех исследователей, которые применяют приемы, характерные для микроистории и антропологического подхода. Но как раз этих приемов в книге не обнаружено, как и «открытия человека».
По мнению автора, «.. .представленный коллективный портрет обоих полков позволяет с иной [Какой именно? — В.ЛД стороны взглянуть на функционирование первой национальной европейской империи»15. Но этого коллективного портрета в книге не обнаружено. Колоссальная база данных о солдатах и офицерах бригады Кольбера 130
(о месте и годе рождения, о форме носа и подбородка, о росте, о цвете глаз и волос, о времени службы, о ранениях и т.д., и т.п.) таким коллективным портретом вовсе не является. Создается впечатление, что сбор под одной обложкой сведений из различных источников, сведений, которые можно хоть каким-то образом, хоть «через пять рукопожатий» связать с боем под Боровском, Д. И. Горшков считает «всесторонним рассмотрением» некого события.
Приложения заслуживают особого внимания сразу по нескольким причинам. Во-первых, они составляют отдельный том объемом 440 страниц. Во-вторых, автор акцентирует внимание на том, что «Обращение к подлинным источникам позволило не только уточнить детали боя под Боровском, но и с иных, более широких перспектив взглянуть на рассматриваемую тему». Он полагает, «...что новое обращение к подлиннику или его новое прочтение всегда актуализирует саму тему и расширяет исследовательские возможности»16. При этом читатель вновь и вновь попадает в состояние озадаченности, поскольку опубликованные материалы крайне трудно связать с вопросами, которые поставил автор монографии. Какое отношение к целям исследования имеет огромная и кропотливая работа над записками Пьера Дотанкура? Что дает выяснение чина польского мемуариста Вицентия Плачковского в 1812 г? Зачем на 50-ти страницах77 представлен состав маршевых эскадронов и послужные списки 19-ти офицеров? Насколько важен для исследования состав 1-й пехотной дивизии 1-го армейского корпуса, что ему уделены 103 страницы78?
Далее мы видим 190 страниц иллюстраций (мундиры польских шволежеров, их головные уборы и знаки различия; портреты офицеров, акварели и рисунки на военные темы, картографические материалы). Автор монографии объясняет наличие такого количества иллюстраций тем, что «классическое представление материала... во многом дополняет, уточняет и расширяет текст нашего исследования»19. В чем конкретно состоит такое дополнение, уточнение и расширение, опять же не сказано. Помещенные в монографии картографические материалы (Приложения № 93-103) — небольшие пестрые картинки, рассмотреть которые можно только с помощью специальных оптических приспособлений. При описании боя упомянуто более четырех десятков географических объектов. Вкупе с двумя десятками «движений» крайне трудно представить происходившее в тот день без подробных и ясных схем, подготовленных автором.
Монографию Д. Н. Горшкова в связи с разнообразием и дробностью ее содержания можно назвать подобием тематической энциклопедии, разделенной на две части под условными названиями «Бой под Боровском 13 (25) октября 1812 г.» и «Бригада Кольбера». Напомним, объем книги (с приложениями) превышает 1 000 страниц, что вполне соответствует формату солидного справочника. Однако для тематической энциклопедии требуется «стержень», не вызывающий сомнения в своей общественной и научной значимости. Ни одна из кавалерийских бригад французской армии, ни одна из многочисленных кавалерийских стычек 1812 г. такого высокого статуса не заслужили. Отсутствие именного и предметного указателя в значительной мере обесценивает колоссальный по объему материал, являющийся результатом многолетней работы автора в архивах и библиотеках. Без специального «путеводителя» найти интересующие сведения в монографии «La garde au feu!...» крайне сложно.
Названия структурных частей не всегда отражают их содержание. Так второй параграф третьей главы80, судя по названию («“Варвары и презренные дикари”. Атаки казаков Д. Е. Кутейникова 2-го»), должен дать представление о действиях русской стороны. Однако бою как таковому посвящены только первые три страницы, тогда как остальные сорок семь отведены описанию того, что потеряли французы (особенно подробно об утратах картографического материала). При этом читателю предоставлено самому угадывать последствия разгрома топографического депо. Здесь уместно напомнить: несмотря на утрату огромного количества карт, Наполеон и его армия после боев в Калужской губернии не сбились с дороги и сумели выбраться из России.
Не удалось обнаружить сведений о том, кто являлся редактором монографии на тех страницах, где эти данные обычно помещаются81. Это позволяет предположить, что книга вышла в авторской редакции (на это тоже нет прямых указаний), поскольку она переполнена стилистическими погрешностями, от которых обычно безжалостно избавляются в процессе редакционной подготовки рукописи. Отсутствие следов работы редактора имеет в нашем случае неожиданные последствия. Обычно академические тексты представляют некоторые затруднения для восприятия теми, кого традиционно называют «интересующимися», и не вызывает проблем у специалистов. В данном случае все наоборот. Очень вероятно, что для первой категории читателей книга является легким, приятным и увлекательным чтением. Здесь нельзя не согласиться с доктором исторических наук Сергеем Николаевичем Искюлем, что она «.. .читается — за редкими случаями— без каких бы то ни было трудностей»82. Но при подходе к этой книге как к «научной монографии» (так указано на обложке первого тома) вышеупомянутые погрешности создают трудности огромные.
На первых и последних страницах советских трудов по военной истории (и по невоенной тоже) обязательными были «руководящие и направляющие» положения классиков марксизма-ленинизма. В постсоветский период пустоту, образовавшуюся после изъятия из употребления этих цитат, нередко стали заполнять высказываниями зарубежных ученых, чьи идеи оказали заметное влияние на развитие исторической науки. Это явление даже иронично назвали «уор-тманией», указывая на увлечение в России работами замечательного американского ученого Ричарда Уортмана83. В обоих случаях ритуальность упоминаний авторитетных знаменитостей оттенялась тем, 132
что за пределами введения и заключения не наблюдалось следования обозначенным «учениям». Во «вступлении» книги о Наполеоновской гвардии мы видим имена известных всем К. Гинзбурга и К. Пони, а в заключении — не менее известного М. Фуко! Внутри же восьми глав книги — решительно ничего, что могло хотя бы напомнить о творчестве этих ученых.
* * *
Если попытка «ухода из военно-исторического архипелага» не входила в планы Д. И. Горшкова, то совершенно непонятно, какую роль в его исследовании играют слова о микроистории и прочем. Его работа очень традиционна, и кроме анонсов новых подходов к изучению действительно важных вопросов истории начала XIX в. и военной истории «вне хронологических рамок» никаких значимых результатов не содержит. Вместо заявленного изучения значительного через незначительное мы видим неудачную попытку придать значительность незначительному.
Название научной публикации обычно несет заряд информации об изучаемой проблеме и потому является обязательством перед читателем. Как уже было сказано выше, ничего нового ни об Отечественной войне 1812 г, ни о Наполеоновской гвардии мы в книге не увидели. Двухтомник производит впечатление коллекции интереснейшего материала, на сбор и обработку которого потрачен колоссальный труд.
Метафорически Д. И. Горшков является обитателем всех частей «архипелага», поскольку мы видим и классическую военную историю, и униформологию, и историю вооружений (тексты о пиках и мушкетонах), и сюжеты о связи военного дела с политическими и социальными процессами. Попытка написать работу военноисторического характера по-новому вызывает безусловную симпатию, как всякое «раздвигание границ», присущее научной среде. Но для этого требуется огромный труд по освоению новых приемов работы с источниками, освоение новых методов и подходов.
Соблюдение традиций ни в коем случае не может считаться чем-то предосудительным, равно как и их нарушение, но только в том случае, когда и первое и второе не является имитацией. Д. И. Горшков во введении фактически заявил, что ему тесно на этих «островах», но дальше таких заявлений не пошел. Таким образом, если рассматривать его монографию как попытку покинуть вышеупомянутый «архипелаг», то ее трудно назвать удачной...
Список литературы Попытка покинуть «архипелаг»? Размышления о военной истории над страницами новой книги о Наполеоновской эпохе
- Горшков Д. И. La garde au feu! Императорская гвардия Наполеона в период отступления 1812 г.: состояние, эффективность и межполковая коммуникация. Т 1: Научная монография. Т 2: Приложение. Москва, 2022.
- Горшков Д. И. La garde au feu! Императорская гвардия Наполеона в период отступления 1812 г.: состояние, эффективность и межполковая коммуникация. Т 1. Москва, 2022. С. 10.
- Горшков Д. И. La garde au feu! Императорская гвардия Наполеона в период отступления 1812 г.: состояние, эффективность и межполковая коммуникация. Т. 1. Москва, 2022. С. 5, 6.
- Горшков Д. И. La garde au feu! Императорская гвардия Наполеона в период отступления 1812 г.: состояние, эффективность и межполковая коммуникация. Т 1. Москва, 2022. С. 361-512.
- Горшков Д. И. La garde au feu! Императорская гвардия Наполеона в период отступления 1812 г.: состояние, эффективность и межполковая коммуникация. Т 1. Москва, 2022. С. 326-330, 331-338.
- Искюль С. Н. Рецензия на книгу: Горшков Д. И. La Garde au feu! Императорская гвардия Наполеона в период отступления 1812 г.: состояние, эффективность и межполковая коммуникация: Научная монография. М.: Зебра Е / Галактика, 2022. 618 с., приложения 439 с. // Петербургский исторический журнал. 2022. № 4, С. 184–191; Mikaberidze A. Dimitri Gorchkoff. La Garde au feu! Императорская гвардия Наполеона в период отступления 1812 г.: состояние, эффективность и межполковая коммуникация. Moscow: Zebra E, 2022, volume 1 (618 pages), volume 2 (439 pages) // Napoleonica. La Revue. 2022. Vol. 1. Issue 1. P. 163–166.
- Искюль С. Н. Рецензия на книгу: Горшков Д. И. La Garde au feu! Императорская гвардия Наполеона в период отступления 1812 г.: состояние, эффективность и межполковая коммуникация: Научная монография. М.: Зебра Е / Галактика, 2022. 618 с., приложения 439 с. // Петербургский исторический журнал. 2022. № 4, С. 184–191; Mikaberidze A. Dimitri Gorchkoff. La Garde au feu! Императорская гвардия Наполеона в период отступленя 1812 г.: состояние, эффективность и межполковая коммуникация. Moscow: Zebra E, 2022, volume 1 (618 pages), volume 2 (439 pages) // Napoleonica. La Revue. 2022. Vol. 1. Issue 1. P. 163–166.
- Горшков Д. И. La garde au feu! Императорская гвардия Наполеона в период отступления 1812 г.: состояние, эффективность и межполковая коммуникация. Т. 1. Москва, 2022. С. 4.
- Горшков Д. И. La garde au feu! императорская гвардия Наполеона в период отступления 1812 г.: состояние, эффективность и межполковая коммуникация. Т. 1. Москва, 2022. С. 523–616.
- Токарева Е. А. Современные войны памяти, или Подходы к интерпретации исторических событий в истории, политике и образовании // Преподаватель XXI век. 2021. № 3–2. С. 288–300.
- Федотова М. С. Миф о Севастопольской обороне 1854–1855 гг. в культурной памяти Российской империи. Санкт-Петербург, 2022.
- Генерал-фельдмаршал князь Александр Александрович Прозоровский // Военный сборник. 1868. № 7. С. 13–36.
- Бестужев И. В. Крымская война, 1853–1856. Москва, 1956. С. 46–159.
- Артамонов В. А. Турецко-русская Война 1710–1713 гг. Москва, 2019.
- Steinberg J. W. All the Tsar’s Men. Russia’s General Staff and the Fate of the Empire, 1898–1914. Washington (D.C.); Baltimore, 2010. P. 54.
- Висковатов А. В. Историческое описание одежды и вооружения российских войск, с рисунками, составленное по высочайшему повелению. Т. 1–30. Санкт-Петербург, 1841–1862; Глинка В. М. Русский военный костюм XVIII — начала XX века. Ленинград, 1988; Иллюстрированное описание обмундирования и знаков различия Советской Армии (1918–1958 гг.). Ленинград, 1960.
- Аранович А. В., Безродин В. А. Униформа Русской императорской армии конца XIX — начала XX века: История. Дизайн. Технологии. Материалы. Санкт-Петербург, 2020.
- Кибовский А. В. Трофейные кирасы Псковского драгунского полка // Цейхгауз. 2000. № 1. С. 18–21; № 2. С. 18–21; 2001. № 1. С. 30–37.
- Габаев Г. С. История лейб-гвардии Саперного батальона. Введение и часть первая, 1700–1812–1813. Санкт-Петербург, 1912. С. 215.
- Ефимов Н. Ю. Военная униформология как социокультурный феномен: содержание и тенденции развития: социально-философский анализ: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук. Москва, 2010. С. 3.
- Быстрова Я. В. Символические функции костюма в культуре: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук. Новгород, 2003; Манкевич И. А. Костюмные тексты в произведениях А. С. Пушкина в культурологическом прочтении // Вестник Томского государственного университета. 2008. № 310. С. 31–38.
- Rigal A. L’uniforme militaire: la production d’une identité collective // Carnet de sociologie militaire [Электронный ресурс]. 13.11.2011. URL: https://sociomili.hypotheses.org/806; Roynette O. L’uniforme militaire au XIXe siècle: une fabrique du masculin // Clio. 2012. No. 36. P. 109–128.
- Шапиро Б. Л. Русский всадник в парадигме власти. Москва, 2021.
- Клочков Д. А. Обмундирование, снаряжение и вооружение Российской императорской армии 1914–1917 гг.: Гвардейская тяжелая кавалерия. Москва, 2015.
- Мак-Нил У. В погоне за мощью: Технология, вооруженная сила и общество в XI–XX веках. Москва, 2008.
- Блиох И. С. Будущая война в техническом, экономическом и политическом отношениях. Санкт-Петербург, 1898. Т. 1–5.
- Редигер А. Ф. Комплектование и устройство вооруженной силы. Ч. 1–2. Санкт-Петербург, 1913–1914; Редигер А. Ф. Унтер-офицерский вопрос в главных европейских армиях. Санкт-Петербург, 1880.
- Зайончковский П. А. Военные реформы 1860–1870 годов в России. Москва, 1952; Зайончковский П. А. Самодержавие и русская армия на рубеже XIX–XX столетий, 1881–1903. Москва, 1973.
- Beyrau D. Militär und Gesellschaft im Vorrevolutionären Russland. Köln; Wien, 1984; Bradley J. Guns for the Tsar. American Technology and the Small Arms Industry in Nineteenth-Century Russia. Dekalb, 1990; Duffi C. Russian Military Way to the West. Origins and Nature of the Russian Military Power. 1700–1800. London, 1981; Fuller W. C. Civil-Military Conflict in Imperial Russia, 1881–1914. Princeton (N.J.), 1985; Hellie R. Enserfment and Military Change in Muscovy. Chicago, 1971; Keep J. L.H. Soldiers of the Tsar. Army and Society in Russia, 1462–1874. New York, 1985; McNeal R. H. Tsar and Cossacks, 1855–1914. New York, 1987.
- Алабин П. В. Венгерская война 1849 г. Ч. I. Москва, 1888; Дараган М. И. Записки о войне в Трансильвании в 1849 году. Санкт-Петербург, 1859; Непокойчицкий А. А. Описание войны в Трансильвании 1849 г. Санкт-Петербург, 1858; Ореус О. И. Описание Венгерской войны 1849 года. Санкт-Петербург, 1880.
- Бескровный Л. Г. Очерки по источниковедению военной истории России. Москва, 1957.
- Бурдун В. Н., Клюшкин А. А. Официальные источники начала XX века об участии кубанского казачества в Русско-японской войне 1904–1905 гг. // Военно-исторический журнал. 2013. № 2. С. 75–79; Малышева Е. М., Аристов С. В. Концентрационные лагеря третьего рейха: центры хранения документов и источниковая база исследования проблемы // Военно-исторический журнал. 2017. № 6. С. 80–88.
- Свечин А. А. Тактические уроки Русско-японской войны. Санкт-Петербург, 1912. С. VI.
- Артамонов В. А. Турецко-русская война 1710–1713 гг. Москва, 2019. С. 23–27.
- Артамонов В. А. Турецко-русская Война 1710–1713 гг. Москва, 2019. С. 26.
- Аваков П. А. Новое исследование о Русско-турецкой Войне 1711–1713 гг. (Рецензия на книгу Артамонов В. А. Турецко-русская Война 1710–1713 гг. М.: Кучково поле, 2019. 448 с.) // Петербургский исторический журнал. 2022. № 2. С. 214.
- Кикнадзе В. Г. Военная история в исторической науке современной России: количественно-качественный анализ (на примере диссертаций, защищенных в 2016–2017 гг.) // Наука. Общество. Оборона. 2018. № 4 (17). С. 3.
- Челышев Е. П. Военно-историческая наука действительно в упадке: Выращивание кадров военных историков — процесс длительный и скрупулезный // Независимое военное обозрение. 2017. 18 авг.
- Кибовский А. В. Георгий Соломонович Габаев — первый теоретик мундироведения (униформологии) // Габаевские чтения: Сборник материалов военно-исторической конференции. Санкт-Петербург, 2022. С. 13.
- Горшков Д. И. La garde au feu! Императорская гвардия Наполеона в период отступления 1812 г.: состояние, эффективность и межполковая коммуникация. Т. 1. Москва, 2022. С. 5
- Горшков Д. И. La garde au feu! Императорская гвардия Наполеона в период отступления 1812 г.: состояние, эффективность и межполковая коммуникация. Т. 1. Москва, 2022. С. 5–6.
- Горшков Д. И. La garde au feu! Императорская гвардия Наполеона в период отступления 1812 г.: состояние, эффективность и межполковая коммуникация. Т. 1. Москва, 2022. С. 7.
- Горшков Д. И. La garde au feu! Императорская гвардия Наполеона в период отступления 1812 г.: состояние, эффективность и межполковая коммуникация. Т. 1. Москва, 2022. С. 8.
- Горшков Д. И. La garde au feu! Императорская гвардия Наполеона в период отступления 1812 г.: состояние, эффективность и межполковая коммуникация. Т. 1. Москва, 2022. С. 5–13.
- Горшков Д. И. La garde au feu! Императорская гвардия Наполеона в период отступления 1812 г.: состояние, эффективность и межполковая коммуникация. Т. 1. Москва, 2022. С. 15–303.
- Горшков Д. И. La garde au feu! Императорская гвардия Наполеона в период отступления 1812 г.: состояние, эффективность и межполковая коммуникация. Т. 1. Москва, 2022. С. 617, 618.
- Горшков Д. И. La garde au feu! Императорская гвардия Наполеона в период отступления 1812 г.: состояние, эффективность и межполковая коммуникация. Т. 1. Москва, 2022. С. 290–303.
- Горшков Д. И. La garde au feu! Императорская гвардия Наполеона в период отступления 1812 г.: состояние, эффективность и межполковая коммуникация. Т. 1. Москва, 2022. С. 31–35.
- Сапожников А. И. Войско Донское в Отечественной войне 1812 года. Москва; Санкт-Петербург, 2012.
- Горшков Д. И. La garde au feu! Императорская гвардия Наполеона в период отступления 1812 г.: состояние, эффективность и межполковая коммуникация. Т. 1. Москва, 2022. С. 15–35.
- Stewart G. R. Pickett’s Charge: A Microhistory of the Final Attack at Gettysburg, July 3, 1863. Boston, 1959; Земцов В. Н. Великая армия Наполеона в Бородинском сражении: Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук. Екатеринбург, 2002.
- Горшков Д. И. La garde au feu! Императорская гвардия Наполеона в период отступления 1812 г.: состояние, эффективность и межполковая коммуникация. Т. 1. Москва, 2022. С. 35–55.
- Горшков Д. И. La garde au feu! Императорская гвардия Наполеона в период отступления 1812 г.: состояние, эффективность и межполковая коммуникация. Т. 1. Москва, 2022. С. 41.
- Горшков Д. И. La garde au feu! Императорская гвардия Наполеона в период отступления 1812 г.: состояние, эффективность и межполковая коммуникация. Т. 1. Москва, 2022. С. 15–34.
- Отечественная война 1812 года. Энциклопедия. Москва, 2004. С. 76.
- Отечественная война 1812 года. Энциклопедия. Москва, 2004. С. 390.
- Отечественная война 1812 года. Энциклопедия. Москва, 2004. С. 178.
- Отечественная война 1812 года и освободительный поход русской армии 1813–1814 годов. Энциклопедия в трех томах. Т. I. Москва, 2012. С. 178, 205, 439.
- Калужская энциклопедия / Под ред. В. Я. Филимонова. Калуга, 2002. С. 75–76.
- Горшков Д. И. La garde au feu! Императорская гвардия Наполеона в период отступления 1812 г.: состояние, эффективность и межполковая коммуникация. Т. 1. Москва, 2022. С. 56–138.
- Горшков Д. И. La garde au feu! Императорская гвардия Наполеона в период отступления 1812 г.: состояние, эффективность и межполковая коммуникация. Т. 1. Москва, 2022. С. 139–215.
- Горшков Д. И. La garde au feu! Императорская гвардия Наполеона в период отступления 1812 г.: состояние, эффективность и межполковая коммуникация. Т. 1. Москва, 2022. С. 218–242.
- Горшков Д. И. La garde au feu! Императорская гвардия Наполеона в период отступления 1812 г.: состояние, эффективность и межполковая коммуникация. Т. 1. Москва, 2022. С. 242–253.
- Промыслов Н. В. Фактографический и «разоблачительный» подходы исчерпали себя: Диалог о книге «Россия против Наполеона: Борьба за Европу. 1807–1814» Доминика Ливена // Российская история. 2013. № 6. С. 33–35.
- Горшков Д. И. La garde au feu! Императорская гвардия Наполеона в период отступления 1812 г.: состояние, эффективность и межполковая коммуникация. Т. 1. Москва, 2022. С. 303–361.
- Горшков Д. И. La garde au feu! Императорская гвардия Наполеона в период отступления 1812 г.: состояние, эффективность и межполковая коммуникация. Т. 1. Москва, 2022. С. 359–360.
- Горшков Д. И. La garde au feu! Императорская гвардия Наполеона в период отступления 1812 г.: состояние, эффективность и межполковая коммуникация. Т. 1. Москва, 2022. С. 361–512.
- Горшков Д. И. La garde au feu! Императорская гвардия Наполеона в период отступления 1812 г.: состояние, эффективность и межполковая коммуникация. Т. 1. Москва, 2022. С. 361.
- Горшков Д. И. La garde au feu! Императорская гвардия Наполеона в период отступления 1812 г.: состояние, эффективность и межполковая коммуникация. Т. 1. Москва, 2022. С. 173–190.
- Горшков Д. И. La garde au feu! Императорская гвардия Наполеона в период отступления 1812 г.: состояние, эффективность и межполковая коммуникация. Т. 1. Москва, 2022. С. 299.
- Горшков Д. И. La garde au feu! Императорская гвардия Наполеона в период отступления 1812 г.: состояние, эффективность и межполковая коммуникация. Т. 1. Москва, 2022. С. 513–516.
- Горшков Д. И. La garde au feu! Императорская гвардия Наполеона в период отступления 1812 г.: состояние, эффективность и межполковая коммуникация. Т. 1. Москва, 2022. С. 516.
- Горшков Д. И. La garde au feu! Императорская гвардия Наполеона в период отступления 1812 г.: состояние, эффективность и межполковая коммуникация. Т. 1. Москва, 2022. С. 518.
- Горшков Д. И. La garde au feu! Императорская гвардия Наполеона в период отступления 1812 г.: состояние, эффективность и межполковая коммуникация. Т. 1. Москва, 2022. С. 518.
- Горшков Д. И. La garde au feu! Императорская гвардия Наполеона в период отступления 1812 г.: состояние, эффективность и межполковая коммуникация. Т. 1. Москва, 2022. С. 519.
- Горшков Д. И. La garde au feu! Императорская гвардия Наполеона в период отступления 1812 г.: состояние, эффективность и межполковая коммуникация. Т. 2. Москва, 2022. С. 7.
- Горшков Д. И. La garde au feu! Императорская гвардия Наполеона в период отступления 1812 г.: состояние, эффективность и межполковая коммуникация. Т. 2. Москва, 2022. С. 74–122.
- Горшков Д. И. La garde au feu! Императорская гвардия Наполеона в период отступления 1812 г.: состояние, эффективность и межполковая коммуникация. Т. 2. Москва, 2022. С. 123–226.
- Горшков Д. И. La garde au feu! Императорская гвардия Наполеона в период отступления 1812 г.: состояние, эффективность и межполковая коммуникация. Т. 2. Москва, 2022. С. 241.
- Горшков Д. И. La garde au feu! Императорская гвардия Наполеона в период отступления 1812 г.: состояние, эффективность и межполковая коммуникация. Т. 1. Москва, 2022. С. 155–190.
- Горшков Д. И. La garde au feu! Императорская гвардия Наполеона в период отступления 1812 г.: состояние, эффективность и межполковая коммуникация. Т. 1. Москва, 2022. С. 4, 620.
- Искюль С. Н. Рецензия на книгу: Горшков Д. И. La Garde au feu! Императорская гвардия Наполеона в период отступления 1812 г.: состояние, эффективность и межполковая коммуникация: Научная монография. М.: Зебра Е / Галактика, 2022. 618 с., приложения 439 с // Петербургский исторический журнал. 2022. № 4. С. 190.
- Эрлих С. Е. Уортомания: Восприятие идей Р. Уортмана в России // Технология власти: Источники, исследования, историография. Санкт-Петербург, 2005. С. 429–442.