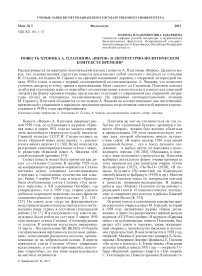Повесть-хроника А. Платонова «Впрок» в литературно-политическом контексте времени
Автор: Заваркина Марина Владимировна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 3 (132), 2013 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается литературно-политический контекст повести А. Платонова «Впрок». Делается вывод, что художественная структура повести представляет собой «полилог» писателя со статьями И. Сталина, взглядами М. Горького на «раскрестьянивание» деревни, с очерковой литературой начала 1930-х годов, а также с теорией «кооперативной коллективизации» А. Чаянова, что позволяет уточнить авторскую точку зрения в произведении. Ведя «диалог» со Сталиным, Платонов доводит до абсурда сталинские идеи «о перегибах» коллективизации, а используя актуальную для советской литературы форму хроники-очерка, представляет отличный от современной ему очерковой литературы взгляд на сталинскую коллективизацию. Не принимая «антикрестьянской» позиции М. Горького, Платонов сближается со взглядами А. Чаянова на коллективизацию как постепенный, проводимый с уважением к народным традициям процесс подключения советской деревни к происходящим в 1930-е годы преобразованиям.
Творчество а. платонова, и. сталин, а. чаянов, коллективизация, повесть, очерк, хроника
Короткий адрес: https://sciup.org/14750415
IDR: 14750415 | УДК: 821.161.1-31
Текст научной статьи Повесть-хроника А. Платонова «Впрок» в литературно-политическом контексте времени
Повесть «Впрок» А. Платонов завершает весной 1930 года, ее публикация в журнале «Красная новь» в марте 1931 года во многом определила дальнейшую творческую судьбу писателя. Главный читатель СССР И. Сталин оставил на полях «Красной нови» свою оценку: «…рассказ агента наших врагов» [1; 150]. Вслед появляется разгромная самооправдательная статья главного редактора «Красной нови» А. Фадеева «Об одной кулацкой хронике» [13].
Сюжет повести может быть прочитан как диалог со статьями Сталина. В декабре 1929 года на конференции аграрников-марксистов Сталин поставил задачу ускорения коллективизации и призвал к «ликвидации кулачества как класса». Ранее, 3 ноября 1929 года, в газете «Правда» была опубликована статья Сталина «Год великого перелома: к XII годовщине Октября», где утверждалось, что в 1929 году стране удалось добиться «коренного перелома» на всех фронтах «социалистического строительства» [12; 124– 125]. На самом деле «курс на форсированную индустриализацию и насильственную коллективизацию вверг страну в состояние гражданской войны» [14; 17]. И в следующем году власти вынуждены были пойти на уступки: 2 марта 1930 года выходит статья Сталина «Головокружение от успехов. К вопросам колхозного движения»; 14 марта – Постановление ЦК ВКП(б) «О борьбе с искривлениями партлинии в колхозном движении», позволившее распускать колхозы, организованные не на добровольной основе. В апреле появляется статья Сталина «Ответ товарищам колхозникам», в которой признавались некоторые «перегибы», но вся вина перекладывалась на местных активистов.
Платонов не мог не откликнуться на эти события, его «душевный бедняк», хроникер в повести «Впрок», должен был воочию убедиться в происходящем. Об этом свидетельствует точная дата, которой обозначено начало путешествия героя: «В марте месяце 1930 года некий душевный бедняк… сел в поезд дальнего следования… и выбыл прочь из верховного руководящего города» [10; 284]. Обращаясь в повести к теме колхозного строительства, Платонов выбирает актуальную форму очерка-хроники (к тому времени им уже написаны очерки «Огни Волховстроя» (1925), «Че-Че-О» (1928), «В поисках будущего (Путешествие на Каменскую писчебумажную фабрику)» (1929) и др.). Многие очерки Платонов писал по материалам поездок в качестве инженера-мелиоратора. В период работы над «Впрок» Платонов сотрудничает с редакцией газеты «Социалистическое земледелие» и совершает ряд поездок в районы Нижней и Средней Волги [8; 334].
Огромную роль в становлении и развитии жанра советского очерка сыграл М. Горький, который в 1929 году организовал журнал «Наши достижения», а через год редактировал первый выпуск журнала «СССР на стройке». В журнале «Красная новь», где публиковалась повесть Платонова, был раздел «От земли и городов», также посвященный очеркам с производства (включая и колхозное строительство). В нем печатаются в 1930 году очерки Ф. Малова «Самочистка» (январь), К. Большакова «Покорение Днепра» (февраль), Е. Гнедина «На путях к колхозу», С. Канатчикова «Рождение колхоза» (май), в начале 1931 года — очерки Б. Губера «Весенний дневник» (март) и «Три очерка» С. Гехта (апрель). Повесть-хроника Платонова от- крывала мартовский номер за 1931 год и печаталась в разделе художественных произведений.
Статьи Сталина о коллективизации стали идеологическим «образцом» для очерков на тему колхозного строительства: они не только очертили круг вопросов, которые можно и нужно рассматривать, но и «подсказывали» писателю, в каком ключе эти вопросы следует обсуждать. Показательный пример – очерк Е. Гнедина. Гнедин затрагивает те же темы, что и Платонов: о принудительном вступлении крестьянина в колхоз («Местные работники говорили: “В колхоз надо итти, как детей в школу посылать; это не принудительно, но обязательно”» [3; 172]); о низкой урожайности крестьянского хозяйства, которое «не идет в ногу с социалистической промышленностью», «не выполняет заданий Ильича догнать и перегнать» [3; 173]; об антирелигиозной кампании в деревне (главка «Боги жарко горят» [3; 175]); о происках кулака (история учителя Корсакова [3; 178–179]). Однако существенное отличие очерка Гнедина от повести Платонова – четкое выражение авторской позиции. Гнедин везде поддерживает генеральную линию партии: так, главка «Цифры» подтверждает необходимость лозунга «Мы ликвидируем кулака как класс».
Повесть-хроника Платонова в первоначальном варианте была отклонена рецензентами и отправлена на исправление. Среди «недоработок» рецензенты называли жанровую неопределенность произведения: «“Впрок” нельзя назвать ни очерком, ни рассказом, ни сатирой, ни реалистической прозой» [15; 285]. Проблема жанровой специфики повести ставилась в связи с главным вопросом – об авторской позиции. Платонов в начале повести просит не отождествлять автора с «душевным бедняком», но ему «не верят»; рецензенты делают Платонова ответственным «за все промахи “электротехника”», считают, что в повести трудно отделить «фантазии автора» от реальных фактов и что его книга только ставит вопросы, но не решает их [15; 282–284]. Синтез очерково-хроникальной формы и лирикосатирического пафоса оказался неприемлем для идеологов советского искусства.
Обращаясь к жанрам хроники и очерка, Платонов использует их структурные возможности, позволяющие включить историческое время в хронотоп произведения и сделать главным композиционным приемом путешествие героя. У платоновского героя нет имени, а авторская характеристика «душевный бедняк» может трактоваться двояко: бедняк душевный или бедный душой [2; 298]. В повести есть ироническое пояснение: душевный бедняк – тот, кто не имеет в душе «основной золотой миллиард, нашу идеологию» [10; 301]. В подтексте актуализируются слова Иисуса Христа из Нагорной проповеди о блаженных «нищих духом». А. Платонов, часто использующий христианские мотивы и образы в качестве поэтических метафор, делает главным героем человека, сознание которого «не оглашено» новыми социалистическими идеями: «У такого странника по колхозной земле было одно драгоценное свойство, ради которого мы выбрали его глаза для наблюдения, именно: он способен был ошибиться, но не мог солгать…» [10; 284]. В статье «Великая Глухая» (1931) А. Платонов выступал против излишней «оглушенности» / «оглашенности» советской литературы идеей [8; 583]. В. Перхин поясняет: «Оглашен-ность… происходит от понятия “оглашаю, учу устно” и означает ознакомление с христианским учением тех, кто желает принять крещение. <…> Об эпохе революции Платонов говорит… как об эпохе принятия новой веры. Причем происходит излишнее “оглашение”, вследствие чего наступает “художественная глухота”» [6; 239]. Платоновский образ-понятие «душевный бедняк» может быть прочитан и как перифраз «Письма селькору-колхознику» (1930) М. Горького, который в начале 1930-х годов поддерживал идею «переделки» деревни и «раскрестьянивания»: «…беднякам ясно было, что единоличное, частное хозяйство на земле – петля для них, видели они, что именно в деревне… плетет крепкую паутину… кулак-мироед… и в душу большинства крестьян глубоко вросло желание… превратиться тоже в кулаков… кулацкая психика – “душа” – свойственна и беднякам» (выделено мной. – М. З.) [4; 269].
«Душевный бедняк» Платонова – это народный интеллигент, который стоит на пороге новой «обобществленной» жизни в колхозе, но которому трудно отказаться от традиции, крестьянского опыта, своей немного «кулацкой» души. Критики увидели в «душевном бедняке» попытку автора «спрятаться» за образом юродивого, чтобы прикрыть «классово враждебный характер своей хроники» [13; 206]. А. Фадеев, оценивая «Впрок» как «кулацкую хронику», проводит параллель с «чаяновской кулацкой утопией» [13; 208]. В начале 1930-х годов проходит ряд показательных процессов по сфабрикованным делам, в том числе процесс «Трудовой крестьянской партии», по которому был арестован выдающийся ученый-экономист, профессор Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева А. В. Чаянов. Чаянов, признавая социалистический путь развития России, тем не менее шел вразрез с главной политикоэкономической тенденцией, которая оформилась в стране во 2-й половине 1920-х годов: прекращение НЭПа и тотальная коллективизация. Его идеал – сильная и самостоятельная деревня, где не будет командно-административных методов регулирования, быстрого и бездумного собирания крестьян в колхозы, уничтожения кулака как класса. Вместо «государственного коллективизма» Чаянов предлагал пойти по пути «кооперативной коллективизации» и делал ставку на личный труд большой крестьянской семьи.
Свои идеи Чаянов высказывал не только в научных работах, но и в художественных произведениях, например в повести «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии» (1920). И хроника Платонова, и повесть Чаянова близки на уровне жанровой модификации: оба произведения с открытым диалогом утопии и антиутопии, что позволяет назвать их метаутопиями. Но возникает вопрос: рисует ли Платонов в повести свой идеал советской деревни? «Чая-новскую утопию» Фадеев увидел у Платонова в «С.-х. артели имени Награжденных героев», учрежденной, как следует из повествования, в 1923 году. Несмотря на то что герой-рассказчик уличает в ханжестве зажиточных мужиков артели, Фадеев обвиняет в лицемерии самого писателя, так как «идиллия, описываемая Платоновым, выглядит прямо каким-то кулацким оазисом в пустыне бестолочи и сумятицы» [13; 208]. Однако и Платонов, и его герой, «душевный бедняк», в котором присутствует ряд автобиографических черт, связывали с коллективизацией свои заветные социальные чаяния по поиску смысла «отдельного и общего существования». Но то, какими методами и с какой скоростью она проводилась, заставляло «сомневаться» в истинности происходящего. И здесь взгляды Платонова действительно близки взглядам Чаянова. Платонов, как и Чаянов, верит в торжество «социального начала» в крестьянине и тем ставит себя в очень опасное положение (в связи с проводимыми политическими процессами): «…эти качества (трудолюбие и дружная организация. – М. З .) должны остаться и тогда, когда эта ханжеско-деляческая артель станет большевистской. Что же будет в артели, если снабдить ее тракторами, удобрениями, приложить к ее угодьям, вместо сухого рачи-тельства, ударный труд, сменить имущественного скопца на большевика и агронома и, главное, сделать артель действительно трудовым товариществом крестьян-бедняков?» [10; 339]. Однако здесь, как нам кажется, можно увидеть и существенное отличие идей Платонова от программы Чаянова. В конце 1920-х – начале 1930-х годов Чаянову вменялось то, что он не увидел опасности в усилении крестьянских семей, которое в итоге привело бы к развитию капиталистических отношений в деревне. Платонов в это время мечтал о крестьянском будущем, технически вооруженном современной наукой и техникой (в этом солидаризируясь с Чаяновым), но где не будет «своего» и «чужого», а земля станет общим «существом существования».
Модель «крестьянской цивилизации» (С. Залыгин) и у Чаянова, и у Платонова шла вразрез с государственной утопией прежде всего в понимании роли народа и личности в строительстве социализма. В центре полемики окажется и семейная тема. По мнению И. А. Спиридоновой, тема «социализм и семья» в 1930-е годы напол- няется у Платонова «своим, вступающим в напряженный диалог, все чаще – конфликт с эпохой, содержанием» [11; 280]. Если в 1920-е годы Платонов сближается с государственной утопией «государство-семья», то в 1930-е уже отходит от нее: ключевая для Чаянова-экономиста, философа, художника мысль о роли традиционной семьи в становлении личности, общества, государства художественно-философски будет раскрыта Платоновым в его рассказах («Среди животных и растений», «Жена машиниста», «Возвращение» и др.). В повести «Впрок» эта тема пока остается «за текстом», но Платонова все больше волнует вопрос: а будет ли впрок народу такая коллективизация? В словаре В. Даля даются следующие значения слова «впрок»: «в пользу, в выгоду, к добру…» [5; 257]. Однако если в начале произведения жители колхоза «Доброе начало» просят героя помочь отремонтировать искусственное солнце, которое будет им «впрок», чтобы «догнать и перегнать в технике, науке и культуре» город [10; 293–294], то в последнем на его пути колхозе под названием «Утро человечества» героя просят решить «великую задачу, чтоб нам догнать, перегнать и не умориться» [10; 287].
Мотив «погашенного» солнца настойчиво звучит в повести. Электрификация – одна из ключевых тем в публицистике и художественных произведениях писателя. Надежды, которые связывал молодой Платонов с электрификацией деревни, были не столько даже технические, сколько метафизические: «…электрический свет и электрический двигатель не только дадут нам вечный день и хлеб, но дадут и новую человеческую товарищескую душу» [7; 159]. В повести «Впрок» писатель приходит к выводу, что насильственная коллективизация, проводимая по абстрактному плану, без уважения к народу и его традициям, ведет не к просвещению и техническому оснащению деревни, а к возвращению к некоему первобытному, полудетскому состоянию, когда «людей придется административно кормить из ложек, будить по утрам и уговаривать прожить очередную обыденку» [10; 256]. М. Геллер справедливо считает, что Платонов показывает коллективизацию как процесс инфан-тилизации крестьянства [2; 310]. То, что Платонов не мог прямо высказать в художественном произведении, оставалось в его «Записных книжках», сопровождавших каждый этап работы над текстом. В книжке 1929–1930 годов есть запись, которая поясняет художественный гиперболизм повести «Впрок»: «…борьба с перегибами бывает иногда тоже перегибом» [8; 29]. Платонов, создавая в повести панораму событий коллективизации, пытался не только по возможности охватить все проблемы современной деревни, но и показать ее социалистический потенциал. Однако желание автора и героя поведать о том, как много можно взять «впрок» для дела социализма из опыта народной жизни, было оценено как антисоветская пропаганда.
* Статья подготовлена в рамках проекта «Создание и развитие деятельности Центра новых филологических исследований» Программы стратегического развития на 2012–2016 годы «Университетский комплекс ПетрГУ в научнообразовательном пространстве Европейского Севера: стратегия инновационного развития».
Список литературы Повесть-хроника А. Платонова «Впрок» в литературно-политическом контексте времени
- Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б)-ВКП(б), ВЧК-ОГПУ-НКВД о культурной политике. 1917-1953 гг. М., 1999. 869 с.
- Геллер М. Андрей Платонов в поисках счастья. М.: МИК, 2000. 432 с.
- Гнедин Е. На путях к колхозу//Красная новь. 1930. № 5. С. 171-182.
- Горький М. Собр. соч.: В 30 т. М.: Гослитиздат, 1953. Т. 25. С. 268-271.
- Даль В. Словарь живого великорусского языка: В 4 т. Т. I. М.: Русский язык, 2000. 699 с.
- Перхин В. В. Русская литературная критика 1930-х: Критика и общественное сознание эпохи. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 1997. 306 с.
- Платонов А. П. Электрификация деревень//Андрей Платонов. Сочинения. Т. I. Кн. 2. Статьи. М.: ИМЛИ РАН, 2004. С. 159-161.
- Платонов А. П. Записные книжки. Материалы к биографии/Сост., подгот. текста, предисл. и примеч. Н. В. Корниенко. М.: ИМЛИ РАН, 2006. 424 с.
- Платонов А. П. Фабрика литературы: Литературная критика. Публицистика/Под ред. Н. Малыгиной. М.: Время, 2011. С. 583-586.
- Платонов А. П. Эфирный тракт: Повести 1920-х -начала 1930-х годов/Под ред. Н. Малыгиной. М.: Время, 2011. С. 284-350.
- Спиридонова И. А. Тема семьи в рассказах Платонова 1930-х гг.//«Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. Вып. 5. М.: ИМЛИ РАН, 2003. С. 277-290.
- Сталин И. В. Собр. соч.: В 18 т. М.: Гос. изд-во полит. лит-ры, 1946-2006. Т. 12. С. 118-135.
- Фадеев А. Об одной кулацкой хронике//Красная новь. 1931. № 5-6. С. 206-209.
- Хлевнюк О. В. Политбюро: Механизмы политической власти в 1930-е годы. М.: РОССПЭН, 1996. 295 с.
- Четыре внутренние рецензии на рукопись «Впрок»//Андрей Платонов. Воспоминания современников. Материалы к биографии. М.: Сов. писатель, 1994. С. 281-285.