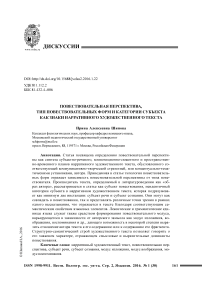Повествовательная перспектива, тип повествовательных форм и категории субъекта как знаки нарративного художественного текста
Автор: Шипова Ирина Алексеевна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Дискуссии
Статья в выпуске: 1 т.15, 2016 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена определению повествовательной перспективы как синтеза субъектно-речевого, композиционно-сюжетного и пространственно-временного планов нарративного художественного текста, обусловленного соответствующей коммуникативно-творческой стратегией, или концептуально-тематическими установками, автора. Приведенная в статье типология повествовательных форм отражает зависимость повествовательной перспективы от типа повествователя. Производитель текста, определяемый в литературоведении как «образ автора», рассматривается в статье как субъект повествования, неидентичный категории субъекта в нарративном художественном тексте, которая подразумевает как минимум две инстанции: субъект речи и субъект сознания. Они могут как совпадать в повествовании, так и представлять различные точки зрения в рамках одного высказывания, что отражается в тексте благодаря соответ ствующим семантическим свойствам языковых элементов. Лексические и грамматические единицы языка служат также средством формирования повествовательного модуса, варьирующегося в зависимости от авторского замысла как модус изложения, воображения, воспоминания и др., дающего возможность в некоторой степени выразить отношение автора текста к его содержанию или к содержанию его фрагмента. Структурно-семантический строй художественного текста позволяет говорить о его знаковом характере, отражающем смысловые и выразительные доминанты повествования.
Нарративный художественный текст, повествовательная перспектива, субъект речи, субъект сознания, модус изложения, модус воображения, модус воспоминания
Короткий адрес: https://sciup.org/14969942
IDR: 14969942 | УДК: 811.112.2 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2016.1.22
Текст научной статьи Повествовательная перспектива, тип повествовательных форм и категории субъекта как знаки нарративного художественного текста
DOI:
В рамках жанрового многообразия художественных текстов нарративный художественный текст (далее – НХТ) остается самым распространенным. Его семантическое пространство организуется благодаря построению содержательных связей, отражающих фиктивный (воображаемый) мир фикциональ-ной реальности, для создания которого существуют техники композиционного структурирования, функционирующие в определенной замкнутой системе, носящей знаковый характер. Как во всякой знаковой системе, знак в ней имеет свои означающие и означаемые, которые реализуются и воспринимаются в языковых характеристиках текста на всех его уровнях. На лексическом уровне находят свое отражение тематический план повествования и формы его композиционно-речевой презентации. Благодаря грамматическому оформлению, в частности на уровне морфологии, читается тип повествовательной перспективы текста (например, наличие личных местоимений для обозначения повествователя или их отсутствие), синтаксис определяет ритмику текста, степень его экспрессивности, включенности персонажей в процесс изображения художественного мира и ряд других характеристик. Лингвистические параметры текста представляют собой способ реализации авторского замысла, а способность читателя считывать заключенное в нем содержание гарантирует адекватное восприятие написанного.
Построение НХТ существенным образом зависит от типа повествовательной перспективы, вопрос о дефиниции которой довольно сложен, поскольку многочисленные направления исследования художественных текстов (литературоведение, нарротология, некоторые направления структурализма и др.) трактуют этот термин по-разному, предлагая для него самые разнообразные определения [13, с. 111]. Одно их перечисление может свидетельствовать о неоднозначности подходов к проблеме, существование которой можно объяснить многообразием форм и видов образа рассказчика (говорящего от 1-го лица) или повествователя (говорящего без обозначения лица), возможностью их комбинирования и возникающими в результате такого переплетения вариантами. Назовем некоторые из известных определений: повествовательная перспектива – это «точка зре- ния» (термин был введен Г. Джеймсом в эссе «Искусство прозы» (1884) [6, c. 54] и получил свою интерпретацию, в частности, в работе Б.А. Успенского «Поэтика композиции» (1970) [12]); «отношение нарратора к повествуемой истории» (П. Лаббок (1921) [14]); «фокализа-ция» (Ж. Женетт (1972) [7]); «повествовательная ситуация» Ф. Штанцель (1979) [15]; «субъектно-речевой план» (термин, используемый в отечественных пособиях по филологическому анализу текста); Standpunkt и Blickpunkt (термины, распространенные в немецкой нарротологии и в целом идентифицируемые с повествовательной перспективой [6]). Все перечисленные термины имеют примерно одно и то же содержание.
Характеризуя повествовательную перспективу, мы разделяем точку зрения ряда отечественных исследователей, утверждающих, что повествовательная перспектива отражает степень охвата повествуемого мира [2, с. 14], определяется как синтез субъектно-речевого, композиционно-сюжетного и пространственно-временного планов художественного текста, обусловленный соответствующей коммуникативно-творческой стратегией, или концептуально-тематическими установками, автора [12] и воспринимается в тексте как повествующая инстанция, отражающая как сложные параметры художественного мира литературного произведения, так и ее реализацию в тексте на уровне семантики языковых средств. Виды повествовательной перспективы – неограниченная, ограниченная и вариационная [2, с. 14] – идентифицируются в конкретном художественном тексте или его фрагменте благодаря соответствующей повествовательной форме.
Обращаясь к типологии повествовательных форм, Е.В. Падучева выделяет: 1) повествование от 1-го лица, где повествователь является аналогом говорящего; такая форма традиционно именуется в отечественной нар-ротологии рассказчиком, а в зарубежной – нарратором; 2) повествование без 1-го лица, с экзегетическим, то есть ограниченным только самим повествованием, повествователем (аукториальная форма); 3) несобственно-прямой дискурс, который вводит невозможную для разговорного языка фигуру говорящего в 3-м лице [11, c. 39]. Последний предполагает форму несобственно-прямой речи, позволяющей прослеживать описываемые события глазами персонажа без его самоидентификации через 1-е лицо.
Данная типология переводит суть проблемы в плоскость формального наименования типов построения текста с учетом преобладающей повествовательной перспективы, а ограниченное количество форм позволяет выбрать вариант анализа, не усложненный наслоениями текстового содержания.
В целом текст создается «производителем речи» – субъектом повествования, тесно связанным, по словам Н.С. Валгиной, с «образом автора» [4, c. 77]. Однако этот термин, на наш взгляд, отражает, прежде всего, литературоведческую составляющую художественного текста, поэтому мы ограничимся инстанцией, именуемой в любом тексте субъектом речи. Она охватывает всю палитру реализуемых в тексте субъектов, число которых варьируется в различных источниках от двух до примерно десятка и определяется необходимостью или возможностью их дифференциации в текстовом фрагменте. В зависимости от тематической направленности нарративного текста в нем можно идентифицировать субъекты высказывания, восприятия, сознания, наблюдения, рефлексии, действия, оценки, дейксиса, пропозициональной установки и др. Как пишет Н.К. Данилова, ссылаясь на точку зрения М. Фуко, субъект, осуществляющий высказывание, представляет собой «пустую» функцию, заполняемую субъектами различных типов. Функциональная дефиниция субъекта обусловлена позиционными и содержательными характеристиками процесса повествования, а его реализация возможна в диапазоне от субъекта речи до субъекта рефлексии [5, c. 168]. Поскольку количество определяемых в высказывании субъектов зависит от разнообразия выраженного в нем содержания, их детализированная типология существенно осложняет анализ составляющих нарративного процесса. В то же время две основные ипостаси субъекта – субъект речи и субъект сознания (рефлексии) – в значительной мере исчерпывают семантику представленных в художественном тексте субъектных позиций, остальные же виды субъектов воспринимаются как проявление многообразных оттенков выраженных в тексте значений. Проиллюстрируем это несколькими фрагментами из романа Клауса Манна «Мефистофель» (1936). Во фрагменте (1) субъект речи повествует о субъекте действия Оскаре Кроге:
-
(1) In den letzten Jahren des Weltkrieges und in den ersten Jahren nach der Novemberrevolution hatte das literarische Theater in Deutschland eine große Konjunktur. Um diese Zeit erging es auch dem Direktor Oskar H. Kroge glänzend, den schwierigen Wirtschaftsverhältnissen zum Trotz. Er leitete eine Kammerspielbühne in Frankfurt am Main (S. 26).
Во фрагменте (2) субъект речи превращается в субъект наблюдения и оценки:
-
(2) Der Fliegergeneral und seine Gattin, die gewesene Aktrice Lotte Lindenthal, waren durch die große Mitteltüre eingetreten: Brausendes Beifallsklatschen und dröhnender Zuruf begrüßten sie. Durch ein Spalier von Menschen, aus dem Jubel stieg, schritt das erlauchte Paar. Kein Kaiser hatte jemals schöneren Einzug gehalten. Der Enthusiasmus schien ungeheuer… (S. 21).
Примеры с иллюстрацией типов субъектов в НХТ можно было бы продолжить. Поэтому точка зрения Б.О. Кормана, выделяющего субъекта речи как того, кому приписан текст (формально-субъектная организация, соотносящаяся с субъектами речи), и субъекта сознания как того, чье сознание выражено в тексте (содержательно-субъектная организация, соотносящаяся с субъектами сознания) [8, c. 508], удовлетворяет задаче определения составляющих пространства художественного текста и позволяет идентифицировать выражение их позиций как соответствующие знаки текста.
Организация текста в соответствии с содержательно-субъектным принципом предполагает, что количество субъектов сознания либо равно количеству субъектов речи, либо превосходит его [10]. В случае персонажной повествовательной перспективы от 1-го лица ед. ч. субъект речи обычно остается и субъектом сознания. Это можно наблюдать в примере (3), поскольку говорящий от 1-го лица представляет свою точку зрения.
-
(3) Das Regime geht weiter seinen schauerlichen Weg. Am Rand des Weges häufen sich die Leichen.
Wer sich auflehnte, wusste, was er riskierte. Wer die Wahrheit sagte, musste mit der Rache der Lügner rechnen. Wer die Wahrheit zu verbreiten suchte und in ihrem Dienste kämpfte, war bedroht mit dem Tode und mit allen jenen Schrecken, die dem Tod in den Kerkern des Dritten Reiches voranzugehen pflegten (S. 319–320).
При оформлении повествования как несобственно-прямого дискурса субъект речи редко остается субъектом сознания, поскольку повествовательная перспектива наррато-ра сливается с перспективой персонажа, отражая, прежде всего, сознание последнего. Субъект речи имплицитно передает не то, что он воспринимает, думает или оценивает, а представляет позицию кого-то другого и отражает его сознание. Например, в (4), где субъект речи в (4a) и (4b) передает позицию субъекта сознания, рассуждающего о своей потенциальной невесте, мысли которого не могут совпадать с мнением субъекта речи:
-
(4) Auch hieran hatte Hendrik schon gedacht. Der Rausch seiner Verliebtheit, der anhielt – (4а) oder von dem er doch gern glauben wollte, dass er dauerhaft –, vermochte Erwägungen kühlerer Art nicht ganz zu verdrängen. (4b) Geheimrat Bruckner war ein großer Mann, auch nicht arm; die Verbindung mit seiner Tochter würde Vorteile bringen, neben allem Glück (S. 94).
В результате текст как бы расслаивается, повествовательная перспектива в (4) переходит от автора другому лицу – (4а) и (4b), что не эксплицируется, но что считывается благодаря содержательным мотивам и грамматическим формам конъюнктива I (sei) при передаче мыслей протагониста в (4а) и кондиционалиса I (würde bringen) при назывании ожидаемых привилегий, зарамочной присоединительной конструкции (neben allem Glück) в (4b). Изменение повествовательной перспективы в (4) считывается и благодаря разным модусам повествования, под которыми в литературоведении понимается способ актуализации законов искусства, то есть единая внутренняя система организации художественного произведения, предполагающая выбор определенного вида мотивов, «голосов», ритмико-интонационного строя текста [9, c. 7]. При некотором расхождении данной дефиниции с той, которая принята в грамматике, где моду- сом называется выражение отношения продуцента высказывания / текста к факту изложенного (см.: [1, c. 74]), все же есть нечто общее в утверждении, что содержание текста передается не однородно, а через призму определенного видения с выражением отношения к нему.
В узком понимании данного термина повествовательный модус представляет собой передачу содержания текста через определенную систему лексических и грамматических единиц языка [3, с. 122], что мы наблюдаем в (4), где «голоса» автора и протагониста выявляются в виде различных модусов изложения: актуального, в форме индикатива, когда речь идет об описании внутреннего состояния Хендрика, и модуса воображения, передающего гипотетичность мыслей последнего через использование сослагательного наклонения.
В НХТ возможны и другие виды повествовательных модусов, модификации которых позволяют изменить восприятие текста с трагического на иронический, с модуса воображения на модус воспоминаний [5, c. 144].
Каждый элемент текста, его структуры имеет свою значимость и проявляет себя в отношении с другими его элементами. Благодаря изменению ракурса повествовательной перспективы картина отражаемой фикцио-нальной действительности приобретает многомерность, модус изложения окрашивает повествование таким образом, что читатель чувствует отношение автора к изложенному. Все элементы имеют знаковую природу, представляют собой структурно-семантические единицы НХТ, соединяемые благодаря определенной синтагматике в текст, реализующий в конечной конфигурации определенную прагматическую интенцию. Центром смысловой организации текста является рассказчик / нар-ратор, отражающий внутреннее посторенние текста в виде повествовательной перспективы в преломлении через тип рассказчика (1-я повествовательная форма), повествователя (2-я повествовательная форма) или через несобственно-прямой дискурс (3-я повествовательная форма). Она, в свою очередь, строится на основе комбинирования композиционно-речевых форм повествования, развивая повествовательный поток в виде сообщения, комментируя его в виде рассуждения или представляя его в виде описания. Текстовой материал дополняется, расширяется, углубляется за счет введения в авторский текст чужой (персонажной) речи. Перечисленные компоненты можно рассматривать как знаки, образующие пространство НХТ, которые, несмотря на формализованность структурных звеньев и схожесть используемых в нем языковых средств, предполагают бесчисленное количество комбинаций, позволяющих проявляться авторскому началу, то есть индивидуальности его создателя, и реализовать все многообразие отражаемых в художественной литературе замыслов, сюжетов, тем и идей.
Список литературы Повествовательная перспектива, тип повествовательных форм и категории субъекта как знаки нарративного художественного текста
- Аверина, А. В. Стилистический аспект функционально-семантического поля (на примере поля эпистемической модальности немецкого языка): дис. … д-ра филол. наук/Аверина Анна Викторовна. -М., 2010. -448 с.
- Андреева, В. А. Текстовые и дискурсивные параметры литературного нарратива (на материале современной немецкоязычной прозы): автореф. дис. … д-ра филол. наук/Андреева Валерия Анатольевна. -СПб., 2009. -37 с.
- Брежнева, Е. В. Повествовательные модусы и их игра в романе Иэна Макьюэна «Амстердам»/Е. В. Брежнева, Б. М. Проскурин//Проблемы метода и поэтики в мировой литературе: межвуз. сб. науч. тр. -Пермь: Перм. ун-т, 2005. -С. 122-124.
- Валгина, Н. С. Теория текста/Н. С. Валгина. -М.: Логос, 2003. -280 с.
- Данилова, Н. К. «Знаки субъекта» в дискурсе/Н. К. Данилова. -Самара: Самар. ун-т, 2001. -225 с.
- Джеймс, Г. Искусство прозы/Г. Джеймс//Писатели США о литературе: сб. ст. -М.: Прогресс, 1974. -С. 44-63.
- Женетт, Ж. Повествовательный дискурс (1972)/Ж. Женетт//Фигуры: в 2 т. -М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1998. -Т. 2. -С. 60-280.
- Корман, Б. О. О целостности литературного произведения/Б. О. Корман//Известия АН СССР. Серия литературы и языка. -1977. -Т. 36, № 6. -С. 508-517.
- Корман, Б. О. Творческий метод и субъектная организация произведения/Б. О. Корман//Избранные труды по теории и истории литературы. -Ижевск: Изд-во Удм. ун-та, 1992. -236 с.
- Крошнева, М. Е. Теория литературы/М. Е. Крошнева. -Ульяновск: УлГТУ, 2007. -103 с.
- Падучева, Е. В. В.В. Виноградов и наука о языке художественной прозы/Е. В. Падучева//Известия АН СССР. Серия литературы и языка. -1995. -Т. 54, № 3. -С. 39-48.
- Успенский, Б. А. Поэтика композиции: Структура художественного текста и типология композиционной формы/Б. А. Успенский. -М.: Искусство, 1970. -225 с.
- Шмид, В. Нарратология/В. Шмид. -М.: Языки славянской культуры, 2003. -312 с.
- Lubbock, P. The Craft of Fiction (1921)/P. Lubbock. -NewYork: Viking, 1963. -276 р.
- Stanzel, F. К. Theorie des Erzählens/F. К. Stanzel. -Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1979. -364 S.
- Mann, Klaus. Mephisto/Klaus Mann. -Berlin und Leipzig: Aufbau-Verlag, 1986. -322 S.