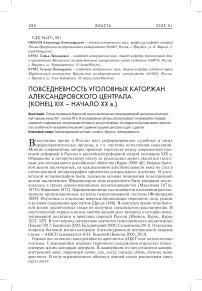Повседневность уголовных каторжан Александровского централа (конец XIX – начало XX в.)
Автор: Иванов А.А., Курас С.Л., Курас Т.Л.
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 1 т.33, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена будничной жизни заключенных Александровской центральной каторжной тюрьмы конца XIX - начала ХХ в. В исследовании авторы рассматривают сложившийся порядок тюремного содержания, организацию питания и досуга каторжан. Исследуется бытовая жизнь арестантов, особенности их взаимоотношений с администрацией централа и друг с другом.
Александровский централ, каторга, иркутск, повседневность
Короткий адрес: https://sciup.org/170209111
IDR: 170209111 | УДК: 94(47), | DOI: 10.24412/2071-5358-2025-1-290-296
Текст научной статьи Повседневность уголовных каторжан Александровского централа (конец XIX – начало XX в.)
В настоящее время в России идет реформирование судебных и иных правоохранительных органов, в т.ч. системы исполнения наказаний.
Многие современные авторы проводят параллели между современной правовой реформой в России и российской реформой второй половины XIX в. Обращение к историческому опыту ее реализации может оказаться полезным для сегодняшнего российского общества [Курас 2000: 46]. Вопрос бытовой жизни заключенных, их каждодневной действительности пока не стал в отечественной историографии предметом специального изучения. В досоветской историографии были заложены основы понимания повседневной жизни заключенных. Фрагментарно тема внутреннего быта каторжан исследовалась в трудах дореволюционных пенитенциаристов [Максимов 1871а; 1871б; Ядринцев 1872]. Дореволюционные исследователи в основном рассматривали организационные аспекты пенитенциарной системы [Фойницкий 1889]. Изучались и отдельные вопросы организации тюремного дела, режим и условия содержания арестантов [Дриль 1898]. В советское время тема бытовой жизни заключенных также не получила специального рассмотрения. В постсоветский период в целом заметен резкий рост интереса к истории пенитенциарной политики и практики царской России [Иванов, Курас, Курас 2022: 397]. В этот период интенсивно изучается повседневность заключенных [Бакшт 2017; Баринова 2020; Беловинский 2008; Сальникова 2013]. Отдельные вопросы бытовой жизни каторжан Александровской центральной тюрьмы (далее – АЦКТ) освещаются Н.Н. Быковой [Быкова 2006; 2013].
Однако все аспекты повседневности арестантов АЦКТ еще недостаточно изучены. Сложившийся порядок тюремного содержания определял повседневную жизнь каторжан централа. К важнейшим из них относятся камера, внутренний двор, тюремный замок, еда, досуг, одежда, обувь, личные вещи арестанта. В силу ограниченного объема в данной статье рассмотрим лишь еду и досуг.
Еда. Еда, как известно, одна из основных, базовых ценностей культуры повседневности. Ее значение велико и в неволе: здесь пища выступала не только как средство поддержания жизненных сил заключенного, но и зачастую была единственным источником получения положительных эмоций и психического благополучия, столь необходимых для каждого человека, свобода которого была ограничена тюремными стенами.
О дневном рационе питания арестантов есть сведения у И.И. Лятосковича. На одного арестанта в 1901 г. каждый день отпускалось определенное количество продуктов, среди которых основное место занимала ржаная мука – по 2 фунта 25 ½ золотников на человека, крупа – по 16 золотников и мясо – по 40 золотников. Если все эти старинные меры веса перевести в современные, получится: чуть больше одного (1,03) кг хлеба, 69 г крупы и 172 г мяса. Также какое-то количество соли, лаврового листа, лука и перца [Лятоскович 1901: 402]. То есть, продовольственное содержание каторжан АЦКТ не было скудным и соответствовало общепринятому размеру солдатского пайка того времени. Питание арестантов, работавших на строительстве Сибирской, Кругобайкальской или Амурской железной дороги, было еще лучше. На Суховском карьере, расположенном в 52 верстах от тюрьмы (Сибирская железная дорога), у каторжан был усиленный продовольственный паек: 1 фунт мяса (0,46 кг), 0,02 ведра картофеля и капусты, 45 золотников (192 г) крупы, 4 золотника масла, 4 фунта ржаного хлеба (1,84 кг). Горячую пищу давали два раза в день – в обед и ужин [Гольшух 1912: 536].
Такой же паек был и у каторжан, занятых на сооружении Кругобайкальской железной дороги: 4 фунта хлеба, 1 фунт мяса, 45 золотников крупы, 4 золотника масла. Мелочная лавка, организованная на месте строительства, имела в своем ассортименте на момент проверки в 1912 г. 15 видов товаров, в т.ч. 10 кулей двух сортов крупчатки, 50 пудов сахара, 15 пудов махорки, 2 ящика спичек, 2 дюжины карандашей, 1 пуд колбасы вареной, 1 коробку большую монпансье, 1 куль кедровых орехов1.
По свидетельству П.К. Грана, побывавшего в АЦКТ с инспекторской поездкой в 1913 г., «продовольствие каторжных, не выведенных на железнодорожные и каменноугольные работы, производится на основании особого приказа по военному ведомству о провиантском и приварочном довольствии войск. Обыкновенный паек состоит из горячего мясного блюда, двух с половиною фунтов черного хлеба и кирпичного чая два раза в день. Мяса отпускается 40 золотников. Стоимость пайка определяется в 13 коп. Паек содержит 132,81 г белка, 23,23 г жира и 530 г углеводов при общем весе пайка без воды 1 588,53 г. По ценности обычный паек каторжных может считаться достаточным, незначительный недостаток белков и жира восполняется той дополнительной пищей, которую может приобретать за счет заработных сумм каждый работающий арестант»2.
Кроме продуктов, которые отпускались по принятым в империи нормам, имелись добавочные, приобретавшиеся на средства централа: рожь, пшеница, горох, чай, масло. Из остававшегося хлеба для арестантов делали квас. Еду готовили по расписанию, утвержденному на месяц вперед. При приготовлении пищи и закладке ингредиентов на кухне присутствовали староста от каторжан и дневальные. Тот же порядок был при выпечке хлеба: мука выда- валась хлебопекам в присутствии представителей от каторжан, тюремный эконом проверял ее остатки несколько раз в месяц. Хлеборез разрезал хлеб на шестифунтовые пайки и выдавал в присутствии надзирателя или эконома арестантам в тюрьму, рабочую команду и приют [Лятоскович 1901: 403]. Для евреев и магометан, содержавшихся в централе, допускалось приготовление отдельной пищи, требуемой их обрядами и традициями.
Больных каторжан помещали в тюремную больницу и кормили лучше здоровых. Как писал И. Лятоскович, «пищевое довольствие больных было обеспечено отпуском особого кредита на лечение». Одному больному полагался один фунт мяса в день, а «еще разные продукты согласно особого расписания». При этом хлеб готовился не в общей хлебопекарне, а в больничной, и, помимо ржаной муки более мелкого помола, хлебопекам выдавалась мука пшеничная для «печения булок» [Лятоскович 1901: 405].
При Александровском централе имелись огороды и ферма. Огороды, общей площадью не менее шести десятин, располагались вблизи тюрьмы, здесь высаживали картофель и капусту. В 1910 г. тюремное ведомство взяло в аренду на 48 лет Плишкинскую сельскохозяйственную ферму. Ее общая площадь составляла почти 500 десятин. Посреди участка протекал ручей, который был перегорожен, благодаря чему имелся небольшой пруд. Здесь размещались ссыльнокаторжные внетюремного разряда, а заведующим был назначен один из помощников смотрителя тюрьмы, хорошо знавший специфику сельскохозяйственного производства. Работавшие здесь арестанты жили в бревенчатом бараке с решетками на окнах. Для дойки коров нанимались жены надзирателей. Ферма поставляла свою продукцию на стол каторжан, а излишки продавала. Кроме молока, реализовывались мясо, рожь, овес, сено, солома, дрова. Помимо угодий, ферма имела значительный «живой инвентарь»: здесь содержались и давали «немалый ежегодный приплод» коровы, свиньи, овцы, утки, куры и т.д. [Гольшух 1912: 546-547].
Как следует из приведенных данных, каторжане АЦКТ питались достаточно сытно. Видимо, и качество еды было приемлемым. Подтверждением этому служат воспоминания Дж. Кеннана, которому во время осмотра тюрьмы показали кухню, «где ежедневно готовилась пища более чем на тысячу человек» и где он «не обнаружил ничего, что бы не согласовывалось с опрятностью и порядком, преобладавшими в других частях здания». Журналист попробовал хлеб и суп, которые дают заключенным, и нашел еду качественной и вкусной [Кеннан 1999: 237-240].
В Александровском централе для нужд каторжан с 1906 г. была устроена мелочная лавка. В ней можно было приобрести чай, сахар, восковые свечи для чтения, бумагу для письма и еще что-то для улучшения питания и тюремного быта. Каторжанин являлся в лавку, располагавшуюся в основном корпусе, со своей индивидуальной книжкой, в которой в графе «Приход» значился его текущий заработок в тюремных мастерских, а продавец, отпуская товары, вписывал в графу «Расход» их стоимость. Каждый каторжанин мог делать здесь покупки на сумму до 4 руб. 50 коп. в месяц1. Интересно, что в лавке приобретали товары как арестанты, так и тюремные служащие. Работали в ней уголовные каторжники, а заведовал – тюремный надзиратель В.Г. Поликарпов. Цены здесь были несколько ниже местных, но при этом торговля приносила тюрьме небольшую прибыль. Часть ее тратилась на закупку музыкальных инструментов для духового оркестра и книг для тюремной библиотеки, а дру- гая часть уходила на пособия и ссуды служащим и семействам заключенных [Быкова 2013: 122-123].
Досуг каторжан. Тюремная повседневность предполагает и наличие определенного досуга, или свободного времени у каторжанина. Форм реализации досуга в Александровском централе было немного, к важнейшей из них можно с уверенностью отнести занятия в тюремной библиотеке.
Первые упоминания о библиотеке относятся к 1906 г. Есть основания предполагать, что скорее всего библиотека осталась здесь с того периода, когда в годы Русско-японской войны в зданиях централа располагался военный госпиталь. Фонды библиотеки постоянно пополнялись книгами каторжан, которые отбывали здесь когда-то наказание, а затем выходили на поселение. Постепенно вокруг первоначальной библиотеки сложилась новая, со значительным числом книг. Так, в ноябре 1916 г. в библиотеке значилось по каталогу не менее 8 292 единиц различных изданий, в т.ч. книг религиознонравственного содержания – 483, беллетристики на русском языке – 2 490, на иностранных языках – 618, отечественной научной литературы – 3 181, научной зарубежной – 472, различных журналов – 1 048 единиц1. Арестанты, получая посылки с литературой, сдавали книги в тюремную библиотеку, а затем просили выдать их для чтения или занятий.
Благодаря уважительному отношению к заключенным централа со стороны администрации, строгой, но разумной дисциплине, развивались несколько направлений досуга, в т.ч. и образование [Иванов, Курас, Курас 2024: 396]. Поэтому АЦКТ всегда была для арестантов и центром ликвидации безграмотности. В конце XIX в. в централе была учреждена тюремная школа с читальней. Она работала в одной из камер. Там же священник вел воскресные душеспасительные беседы. Так, за 1897–1898 гг. в школе научились читать и писать 64 чел., в группе малограмотных обучались еще 96 чел. При школе была читальня, желающие получали книги и читали их там же. Так занимались от 20 до 30 чел. Поскольку арестантам внетюремного разряда доступ в острог был невозможен, то в 1897 г. для них была устроена читальня-чайная в особом здании вне стен централа. Здесь были столы, на которых раскладывались книги и газеты, имелась даже кафедра для лекторов и шкаф для библиотеки. Читальня-чайная работала с 8 ч утра до вечерней поверки [Лятоскович 1901: 406].
Школа и читальня работали в АЦКТ и после 1905 г., когда деятельность тюрьмы была приостановлена, и в ее помещениях располагался военный госпиталь. В 1906 г. занятий еще не было, однако в 1907 г. в школе АЦКТ уже преподавали закон Божий, чтение, письмо («переписка книг и диктант»), а также первые четыре действия арифметики. Средств на содержание учителя не было, его обязанности бесплатно исполнял один из грамотных арестантов. Ежедневно школу посещали от 50 до 70 каторжан. Обучение было обязательным для несовершеннолетних, но учились и все желающие взрослые. Школьники обучались в две смены: первая – с 8 ч утра до 11, вторая – с 13 до 16 ч. «Учебный год» для конкретного арестанта зависел от перемещения его по отрядам – от отряда исправляющихся к внетюремному, а также от занятости работами на отдаленных участках. Поэтому он был невелик и составлял в основном от трех месяцев до одного года. «Лекторами» школы выступали служащие тюрьмы – смотритель, его помощник, священник, врач. «Читалась беллетристика, начатки истории, географии, законоведения, популярная медицина». Особую роль в организации воскресных чтений играл тюремный священник о. Иннокентий Писарев, служивший здесь около 18 лет [Савицкий 1907: 770-771].
Арестантские будни в централе перемежались с праздничными днями. Как правило, они состояли из религиозных дат или знаменательных событий из жизни династии Романовых. Вот как, к примеру, отмечалось в селе Александровском и в тюрьме Крещение Господне 6 января 1915 г. Проводился военный парад в составе трех рот местной команды. Войска в парадной форме, папахах, при винтовках и шашках проходили строем вблизи Александро-Невской церкви. Во время погружения в иордань креста Господня отделением солдат-старослужащих, снабженных холостыми патронами, производился ружейный салют. За военным парадом наблюдали не только жители села, но и каторжане внетюремного разряда с семьями1.
Может сложиться впечатление, что вся повседневная жизнь каторжан централа была хорошо известна тюремной администрации и полностью находилась под ее контролем. На самом деле это было далеко не так. Здесь отбывали наказание уголовные преступники, многие из которых и в тюрьме продолжали жить по своим правилам и не стремились к исправлению.
По некоторым воспоминаниям, часть уголовных каторжан, так называемые иваны – тюремная аристократия, пребывали в централе в постоянной праздности. В их камерах день и ночь процветала карточная игра, в которую они вовлекали арестантов, осужденных по «легким» статьям, – «шпанку», заставляя их играть не только на дневные пайки, казенную одежду и обувь, раздевая до нитки, но и проигрывать «еще не украденные на будущей воле» деньги. Политический каторжанин И. Криворуков, описавший в своей статье камеру таких «иванов», вспоминал: «В карты играли на настоящие деньги и фальшивые, которые успешно и с удивительным мастерством печатались в самой тюрьме. «Фабрика» выпускала трехрублевки, пятирублевки, пробовали даже печатать кредитные билеты 25-рублевого достоинства. Изготовлялись также полтинники. И все эти фальшивки через тюремных надзирателей сплавляли на волю. Полтора года тюрьма снабжала всю Иркутскую губернию фальшивыми деньгами». «Фабрика» эта была обнаружена случайно, «во время произведенного обыска, вызванного совершенно другими причинами» [Криворуков 1928: 92].
В другой камере, по описанию И. Криворукова, всегда стояли «невообразимый шум, драки, разнузданная карточная игра и семиэтажная ругань». Здесь «головка иванов» отказывалась «дежурить», «подметать камеру, убирать со стола». По воспоминаниям автора, была в централе и камера «боящихся», их еще называли «легавыми», или «суками». К ним относились те, кто тайно «сотрудничал с администрацией», сообщая о готовившихся побегах или акциях неповиновения, пытаясь таким образом сократить себе сроки пребывания в тюрьме. Естественно, что таких арестантов тюремная масса стремилась наказать за сотрудничество с руководством АЦКТ, а оно, в свою очередь, предоставляло «боящимся» отдельную камеру, двери которой были закрыты и днем, и ночью [Криворуков 1928: 93].
И. Криворуков также повествует о борьбе уголовных «иванов» и политических каторжан. Были случаи, когда уголовников селили вместе с «политиками» в общие камеры, их отношения обострялись. «Старые рецидивисты» ненавидели политических, не дававших им издеваться над «шпанкой» и «слу- чайно попавшими на каторгу». Однажды неприязнь переросла в открытое столкновение. Обе стороны «тайно вооружались ножами», но проведенный администрацией централа по доносу одного из «боящихся» обыск с изъятием холодного оружия остановил кровопролитие. Камера с рецидивистами была «раскассирована», а «политиков» стали отделять от уголовных [Криворуков 1928: 93].
О противостоянии «иванам» также пишет в своих воспоминаниях А. Соболь. Его как политического ссыльного пригнали с этапом из Иркутской тюрьмы в Александровский централ в 1906 г. Автора поразило, что тюрьму фактически захватили уголовники, которые жили в отдельной камере и вели себя, со слов Соболя, как «короли в изгнании». Из их «шестой камеры шли суд и расправа; с молчаливого согласия каторжного начальства «иваны» забрали в свои руки кухню, распределение работ. Зато администрация была спокойна: “иваны” отвечали за порядок, карали виновных, наблюдали за чистотой и работой». Но вот в централ пришла партия матросов – участников революционных выступлений на судах Черноморского флота в 1905 г., и с их появлением «старый порядок затрещал». Но уголовные авторитеты не хотели сдавать свои позиции. Поводом к жестокой поножовщине стал очередной загул «иванов», которые сумели пронести в тюрьму водку, а «на закуску прикарманили все арестантские порции мяса. Страшное было. Дрались в бане, в прачечной, в коридоре. Троих убили, остальных покалечили. ‹…› Надзиратели попрятались… Революция победила, но камера “иванская” все же осталась, правда, с весьма куцыми правами» [Соболь 1925: 46-54].
Таким образом, повседневная жизнь арестантов Александровской тюрьмы, как и любой другой в Российской империи, во многом определялась порядком содержания, выработанным на основе имевшихся правовых актов и многолетней практики, опыт применения которой передавался из поколения в поколение как среди сидельцев, так и служителей тюрьмы. Отношение к каторжанину со стороны администрации было скорее либеральным, чем жестоким или несправедливым. Благодаря усилиям администрации, питание каторжан было организовано согласно общепринятым нормам и даже улучшено благодаря наличию собственных огородов и фермы.